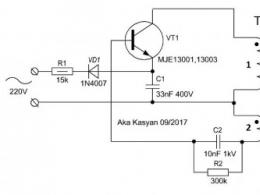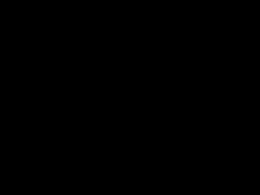Высшее благо аристотеля. Что предлагается аристотелем для выяснения наилучшего в том или ином государственном устройстве
Основные понятия: первовещество, материалистическая психология, формы государственного устройства, аристократия, тимократия (полития), демократия.
Аристотель (IV в. до н.э.) уделяет вопросам этики, морали, проблематике добра и зла много внимания. С его именем связывают три сочинения по этике: «Никомахова этика», «Евдемова этика», «Большая этика». В иерархии наук этику и политику он относил к практическим наукам.
Заслугой Аристотеля является создание науки этики. Этика, по Аристотелю, - учение о нравственности и морали, - означала практические знания относительно того, что есть счастье и каковы способы и средства для его достижения, рекомендации о правилах поведения и образе жизни, о воспитании соответствующих деятельностно-волевых качеств. Кстати, все это трактуется с использованием и с учетом психологических закономерностей, проявляющихся у людей.
Каким же видит Аристотель необходимый образ жизни человека? Прежде всего отмечается: жизнь - это деятельность. Вне деятельности он не мыслит назначение человека и его высшее благо, счастье, блаженство. Конечно, деятельность должна быть разумна и направлена на благо. Но... благо одного человека, говорит он, желанно, конечно, но прекрасней и божественней - благо народа и государства. (Он не мыслит человека вне полиса; для него человек - существо общественно-политическое). Именно последнее как высшее благо имеет в виду наука о государстве, политика - важнейшая среди всех наук, по его мнению. Наука управлять должна иметь своей целью достижение и сохранение блага государства. «К чему же стремится наука о государстве и что есть высшее из благ, осуществляемых в поступках его граждан? Почти все дают один ответ - счастье», - размышляет он («счастье - это начало в том смысле, что для него мы делаем все остальное»). Но трактовка счастья у всех различна. По Аристотелю, счастье - это высшее и самое прекрасное благо, доставляющее величайшее удовольствие (как видим, понятие счастья увязывается с понятием удовольствия). Но понимать ли под высшим благом обладание добродетелью или применение ее, склад души или деятельность - задает он вопрос. И отвечает - в жизни благого и прекрасного достигают те, кто совершает правильные поступки (подчеркивается момент деятельности). И даже сама по себе жизнь доставляет им удовольствие в таком случае (как на олимпийских играх, где венки получают не самые красивые и сильные, а те, кто участвует в состязании, т.е. главное - не победа, а участие). Итак, для счастья признается главным деятельность, но деятельность согласно добродетели. Главной же человеческой добродетелью, как было отмечено, он называет деятельность на благо государства, народа. Причем превыше всего он ставит добродетель не тела, а души. Среди последних Аристотель выделяет две категории: одни добродетели называет мыслительными (мудрость, сообразительность, рассудительность), другие - нравственными (щедрость, благоразумие, мужество).
Таким образом, можно проследить следующую цепочку в размышлениях философа: цель жизни - благо, высшее благо - счастье, как результат служения народу, государству, его достижение осуществляется через деятельность согласно добродетели и доставляет высшее блаженство, удовольствие. В конечном счете, он призывает воспитывать соответствующие добродетели души и тела.
Далее Аристотель подробно анализирует возможности воспитания и совершенствования добродетелей. В качестве предпосылки он развивает тезис о соотношении природных и социальноприобретенных качеств в человеке. Он признает, что нравственные добродетели мы получаем по природе, но подчеркивает, что мы получаем их сначала только как возможность. Ни одна из конкретных нравственных добродетелей в полной мере не дана нам по природе, т.е. не активна, пишет он, а существует только в возможности, потенциально. Только благодаря приучению мы в них и совершенствуемся. Нравственная добродетель рождается в полной мере привычкой, приучением в деятельности, а мыслительная возникает и возрастает преимущественно благодаря обучению. Таким образом, и в том, и в другом случае подчеркивается деятельностный аспект. Добродетель мы обретаем, прежде осуществив что-нибудь, ибо учимся мы, делая это, подчеркивает он. Совершая правые поступки, мы становимся правосудными, поступая благоразумно или мужественно, - благоразумными и мужественными. Короче говоря, повторение одинаковых поступков рождает соответствующие нравственные устои. Сегодня такие воззрения трактуются в качестве современной деятельностной теории личности. Таким образом, по его мнению, очень многое, пожалуй, даже все, зависит от того, к чему приучаться с детства. В то же время он отмечает, что и совершая поступки при взаимном обмене между людьми одни становятся правосудными, а другие - нет; приучаясь к страху и отваге и совершая поступки среди опасностей, одни становятся мужественными, а другие - трусливыми. Точно также одни становятся благоразумными и ровными, а другие - распущенными и гневливыми. В этом случае он подчеркивает индивидуальную, природную основу, различную у разных людей. Но одно только не вызывает у него сомнений, - даже если и есть соответствующая природная основа, только хорошо обучаясь, становишься добродетельным, а плохо -= нет. Не будь это так, не было бы и нужды в обучении (прямо он не упоминает важность учета индивидуальных психофизиологических особенностей, но эта идея явно ощущается).
Остановимся подробнее на вопросах соотношения педагогики и психологии в его учении. Добродетели по своей природе таковы, пишет он, что недостаток или избыток внимания к ним в процессе обучения и по его завершению их губят; благотворно обладание серединой. Признаком образования нравственных устоев следует считать вызываемое последующими делами удовольствие или страдание (ибо добродетели связаны с поступками и страстями). Последние в свою очередь способны улучшить или ухудшить склад души. В конечном счете, он утверждает, что счастье - это нечто общее для многих, ведь благодаря своего рода обучению оно может принадлежать многим, а именно, всем, кто не увечен для добродетели. В целом он подчеркивает практический аспект науки этики: «Мы проводим исследование не для того, чтобы знать только, что такое добродетель, а для того, чтобы стать добродетельными, иначе от этой науки не было бы никакого толку».
Отметим, что свои исследования в области этики он основывает на собственном учении о душе человека. По мнению Аристотеля, есть три силы души, главные для трактовки сущности души и для познания истины: чувство, ум, стремление. Наибольшее значение для человека он придает уму. Ход его мысли следующий. Начало целесообразного поступка - сознательный выбор. Источник сознательного выбора - суждение (разум) и, как результат, стремление, имеющее что-то целью, как нечто нравственное, некую нравственную ценность. Таким образом, сознательный выбор невозможен ни помимо ума и мысли, ни помимо определенных нравственных устоев. Сознательный выбор - это результат деятельности «стремящегося ума» или «осмысленное стремление», а именно такое начало и есть человек разумный.
В разумной части души, по его мнению, зарождается и воля, трактуемая как осознанное стремление («когда движение совершается сообразно размышлению, оно совершается и сообразно воле»). Но есть другая часть души, не основывающаяся на разуме. В ней зарождаются иные стремления - уже на основе страсти. (Можно предположить, что ум он связывает с божественным творением, а страсти - с первовеществом, с действием антипода бога). Таким образом, в каждой части души будут возникать стремления, между которыми осуществляется борьба. При этом исход этой борьбы может быть различным, ибо стремление - это желание (осознаваемое или неосознаваемое), страсть и воля. Невоздержанный человек, даже когда ум предписывает, а размышления подсказывают чего-то избегать или добиваться, поступает согласно желанию. Таким образом, стремление движет иной раз и вопреки размышлению. В то же время владеющие собой люди, хотя и имеют и стремление, и желание, часто не делают этого, а сообразуются с умом: ими движут по крайней мере две способности - стремление и ум. При этом стремление имеет цель, которая и есть движущее начало души - начало действия. Он подчеркивает, что ум всегда правилен, стремление же и воображение - то правильны, то неправильны. Почему? Дело в том, что приводит все в движение предмет стремления. Но он есть либо действительное благо, либо благо кажущееся. В последнем случае ум зелит воздерживаться ввиду будущих последствий (возможно, негативных), желания же побуждают к осуществлению тотчас же, ибо удовольствие «сейчас и здесь» кажется безусловным благом. Таким образом, понятие блага может быть относительным. С этим рассуждением он связывает также мысли о воображении, которое наличествует, по его мнению, лишь у тех, кто наделен разумом. И уже дело разума побуждать поступать так или иначе. А применять нужно одно мерило - ведь всегда добиваются большего блага. Значит, нужно осознанно действовать именно в этом направлении.
В связи со сказанным Аристотель разграничивает поступки произвольные и непроизвольные. В основе первых лежит сознательный выбор и он сопряжен с рассуждением и размышлением, - его хвалят за то, что выбрано должное. Добродетели, по его мнению, так же, как и порок, зависят от нас, от нашего разума, и поступки как бы регулируются, управляются по прихоти, произволу воли. К примеру, нравственно прекрасное и есть та цель, ради которой мужественный осознанно выносит и совершает то, что подобает мужеству. Но если человек не страшится ничего, даже землетрясения, непроизвольно рискуя жизнью без серьезного повода, то он, вероятно, тупой или бесноватый. В то же время поступок (проступок) может быть произвольным и неправедным из-за неведения условий и цели, тогда разумного человека должен заставить страдать и раскаиваться.
Аристотель различает также поступки подневольные или нет. Хвалу и осуждение, по его мнению, получают в зависимости от того, по принуждению или нет совершен тот или иной поступок. Хвала достается тому, кто совершает мужественный поступок без всякого принуждения, по собственному выбору, и наоборот. В то же время тот, кто подневолен, не заслуживает осуждения, по его мнению, если принужден совершить неправедное действие. Но существуют некоторые поступки, к совершению которых ничто не должно вынудить, с его точки зрения, - скорее следует умереть, в этом случае, претерпев самое страшное (отречение от родных, близких, от Родины). В целом его вывод: в душе бывают три вещи - страсти, способности, устои. Страсти и способности в нас от природы, за них мы не заслуживаем ни похвалы, ни порицания. Устои - это добродетели, которые мы приобретаем, поэтому за добродетели мы достойны и похвалы, и порицания, ибо они предполагают наш сознательный выбор. (Зверю не свойственна ни порочность, ни добродетель). Но подчеркивается, что трудное это дело - быть добропорядочным, ведь найти середину (меру) в каждом случае не просто. Больше всего надо остерегаться, по его мнению, удовольствия и страдания, и всего, что их доставляет, - ведь об этих вещах мы судим крайне пристрастно и они могут увести нас от добрых дел. Мудрость, делает он вывод, - это самая точная из наук: это и научное знание, и интуитивное постижение умом вещей, по природе наиболее ценных. Мудрость пытается дать ответ "на главный вопрос: как можно (почему?), имея правильные представления, вести невоздержанную жизнь? Понять удовольствие и страдание - это задача для философствующего ума, высшая цель, взирая на которую мы определяем каждую вещь как зло или благо в безотносительном смысле. Таким образом, провозглашаются и подчеркиваются высшие цели психологической науки как науки о душе (на стыке с философией). Аристотель, как и Платон, понимает: «Добиться о душе чего-нибудь достоверного во всех отношениях безусловно труднее всего...». И все же он отмечает, что, по-видимому, все состояния души связаны с телом (при этом различает состояния души и саму сущность души): негодование, кротость, страх, страдание, отвага, радость, любовь, отвращение... и мышление не может быть без тела. «Возможно, - пишет он, - дело обстоит так, что состояния души имеют свою основу в материи», - и, похоже, именно по этой причине его называют отцом материалистической психологии.
Исходя из рассмотрения основ блага, счастья, добродетели, Аристотель переходит к анализу форм государственного устройства, в максимальной степени способствующих реализации этих возможностей. Он отмечает, что существует три вида правильного государственного устройства и равное число извращений: царская власть - наиболее правильный вид (подобна отношениям отца и детей, но может перейти в тиранию, как дурное качество единоначалия), аристократия подобна отношениям мужей и жен (может перейти в олигархию из-за порочности начальников), тимократия или полития подобна отношениям братьев (может перейти в демократию, как власть народа). Демократия - наименее плохое среди извращений, хотя- и бывает в домах без господина или там, где начальствующий немощен и каждому можно делать все, что вздумается. Аристотель заканчивает свое этическое учение пожеланием: «самое лучшее, чтобы проявилось общественное внимание к воспитанию молодежи, причем правильное. Воспитание каждого в отдельности отличается от воспитания всех, т.е. общественного, - в частном порядке достигается большая точность. Однако и общие правила надо знать, ибо сказано, что науки имеют дело с общим».
Аристотель. Собрание соч. в 4-х т.: Метафизика. О душе. Т. 1., - М., 1975 г.; Большая этика. Никомахова этика. Т. 4. - М., 1984 г.
Этика материалистов античности (Эпикур, Лукреций Кар)
Основные понятия: гедонизм, эпикуреизм.
Основными предпосылками этики Эпикура, Лукреция, как и всякой другой, являются соответствующие онтологические воззрения: трактовка основ мироустройства и его функционирования с позиций материализма, атомизма, своеобразное понимание роли Бога и соотношения свободы и необходимости в действиях человека. Наиболее зримо и значимо это проявилось в этике Эпикура (III в. до н. э.). Все свои исследования в области онтологии и физики он подчиняет этике как науке о поведении человека, о предпочитаемом и избегаемом им, образе жизни и предельной цели жизни, т.е. излагает науку воспитания, которому и отдает приоритет в трактовке сущности личности. Рассмотрим основные принципы его этики.
С самого начала Эпикур твердо заявляет, что наука не служит никакой иной цели, кроме как воспитанию безмятежности духа на основе твердой уверенности в главных вопросах: «отрешиться от пустых мнений и прочно помнить о самом главном, - о богах, о жизни и смерти».
Причем, что касается богов, то он (материалист) сразу же заявляет о признании существования богов, хотя его взгляд в этом отношении достаточно оригинален: «Да, боги существуют, но они не такие, какими их полагает толпа, - мнение об активном участии богов в человеческой жизни противоречит представлению о боге как о существе бессмертном и блаженном». (Напомним, что у Гомера, к примеру, боги, сами порождающие и героев, и людей, естественно, правят их жизнью, вмешиваясь, когда пожелают). Итак, Эпикур признает существование богов, но отрицает возможность прямого управления ими в человеческой жизни («они блаженны и безмятежны»). В этом одна из причин утверждения им свободы человека.
Что касается другого главного вопроса -- о жизни и смерти - то он, признавая важную роль представлений о них в формировании поведения человека, также отмечает, что нельзя рассеивать страх о самом главном в жизни, о ее завершении в смерти, не постигнув его природы: «Привыкай думать, - пишет он своему другу, - что смерть для нас ничто: ведь все хорошее и дурное заключается в ощущении, а смерть есть лишение ощущения. И нет ничего страшного в жизни тому, кто понял, что нет ничего страшного в нежизни. Самое ужасное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения: когда мы есть, то ее еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Мудрец не уклоняется от жизни и не боится нежизни».
Исходя из такого взгляда на богов, на жизнь и на смерть, Эпикур формулирует свое понимание счастья: «Прежде всего, надлежит подумать, - пишет он своему другу Менекею, - что составляет наше счастье? Оно, по-видимому, может быть двух родов, - высочайшее, как у богов, и такое, что допускает прибавление и убавление наслаждений». Но о счастье богов он не рассуждает, а для человека провозглашает как конечную цель его блаженной жизни телесное здоровье и духовную безмятежность - только в этом случае человек будет получать наслаждение от жизни («ведь все, к чему мы стремимся, это не иметь ни боли, ни тревоги»). Итак, наслаждение, по его мнению, есть начало и конец блаженной жизни, что позволяет говорить о чувственно-гедонистической направленности создаваемой им этики.
Но один вид наслаждения может отличаться от другого и следует выбирать то, считает он, которое связано с разумением - только в таком случае возможно добродетельное поведение. «К примеру, - пишет он, - не всякое чувственное наслаждение заслуживает предпочтения. Многие из них мы обходим, если предвидим, что за ними следуют более значительные неприятности. Равным образом, всякая боль есть зло, но не всякой боли следует избегать (иной раз, перетерпев, получим большее наслаждение). Таким образом, порой и на благо мы смотрим как на зло и, напротив, - на зло, как на благо». Эпикур признает наслаждение и в покое (безмятежность и безболезненность) и в движении (радость и удовольствие). Наихудшей он считает душевную боль, так как тело мучится лишь бурями настоящего, а душа - и прошлого, и настоящего, и будущего. Точно так же и наслаждения духовные сильнее и больше, по его мнению, чем телесные. На Эпикура было множество нападок: обвиняли и в разврате, и в чревоугодии, и в плагиате. Исходя из этого, эпикурейский образ жизни, эпикурейская философия часто толкуются превратно. Однако есть и иные свидетельства, о том, что жизнь его была скромна и неприхотлива. Он пишет другу: «Когда мы учим, что наслаждения есть конечная цель, то разумеем отнюдь не наслаждения распутства или чувственности, - разумеем свободу от страданий тела и от смятений души». И заключает он эти свои советы другу следующим: «Что, по-твоему, выше человека, который о богах мыслит благочестиво и от страха перед смертью совершенно свободен, кто размышлением постиг высшую цель природы, понял, что высшее благо легко исполнимо и достижимо, а высшее зло или недолго, или нетяжко, который смеется над судьбой и вместо этого утверждает, что иное происходит по неизбежности, иное - по случаю, иное - зависит от нас. Неизбежность - безответственна, случай - неверен, а зависящее от нас ничему иному не подвластно».
Таким образом, он твердо отстаивает мнение о свободе воли человека: несчастье жить в необходимости, но жить в необходимости вовсе не является необходимостью, - пути к свободе везде открыты. (Он полемизирует с Демокритом, тоже материалистом, но согласно учению которого в мире царствует исключительно необходимость). По-видимому, способность человека к свободному выбору он также увязывает с его счастьем. Заканчивает Эпикур письмо к другу так: «Обдумывай же хорошо эти советы и будешь жить как бог среди людей». (Кстати, свои представления о счастье человека он связывает и с увлечением философией: «Тот, кто говорит, что заниматься философией еще рано или слишком поздно, подобен тому, кто говорит, будто быть счастливым еще рано или уже слишком поздно. Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в старости не утомляется этими занятиями» («Главные мысли»)).
Свободу воли человека Эпикур связывает с неким спонтанным отклонением атомов (Демокрит не признает такого отклонения), о чем свидетельствует римский философ Лукреций Кар (I в.до н.э.). Но в чем первопричина такого отклонения, не объясняется. Кстати, тем самым ставится под вопрос и разумность свободного выбора, на чем настаивает Эпикур в своей этике.
Некоторую попытку такого объяснения можно усмотреть у Гераклита (У1-У в. до н. э.), важнейшая идея которого - единство и борьба противоположностей. Все в мире, по его мнению, состоит из противоположностей, противоборствующих тенденций и сил, их борьбой определяется сущность любой вещи, любого процесса. Борьба, распря, война лежат, пишет он, в основе всего сущего, в том числе и духовной жизни человека, - они всеобщи и составляют истинную справедливость, являясь условием существования упорядоченного космоса. Гомер, с его точки зрения, молясь, «чтобы сгинула распря между людьми и богами», не ведал, что тем самым навлекает проклятие на все сущее, что рождается и существует только в силу противоборства и противодействия. Противоборствующие силы попеременно сменяют друг друга, обуславливая и устойчивость вещей, и их изменчивость: «В одном и том же заложено и живое, и мертвое, бдящее и спящее, молодое и старое».
В этом же направлении развивается мысль Эмпедокла (V в. до н.э.), который постулирует наличие в мире двух нематериальных сил: Любви и Вражды, которые соединяют или разделяют разнородные элементы, обуславливая циклический ход мирового процесса. Отсюда можно сделать вывод и об абсолютном релятивизме этических принципов, что также противоречит учению Эпикура о разуме человека как основе его этики. И все же надо подчеркнуть наличие у Гераклита идеи существования Логоса (некоего Закона, управляющего мирозданием, от которого, возможно, исходят импульсы разума и разумного наслаждения).
В русле таких представлений можно отметить и мысль Анаксимандра о божественном Апейроне, лежащем в основе бытия, а также утверждение Фалеса: «В мире все полно богов», - т.е. в конечном счете просматривается идея существования какой-то живой, одушевленной, божественной субстанции, из которой происходят и боги, и мир с его закономерностями, и человек. Таким образом, и снаружи, и изнутри человека действуют материальные закономерности, за которыми стоят божественные сущности, обуславливающие и так называемую случайность в этом мире, и так называемую свободу человека.
В заключение отметим работу «О природе вещей» Лукреция Кара, в которой он подробно развивает психофизиологические и сексологические теории взаимоотношений между людьми. У него имеется яркое поэтическое описание действия врожденного сексуального инстинкта как одной из основных движущих сил в человеке, оказывающей значительное влияние на его поведение.
Итак, рассмотрение наиболее известных авторов этических теорий античности приводит нас к выводу, что в их творчестве проявились все основные выделенные нами направления развития этических взглядов: чувственно-гедонистическое, религиозно-мистическое, научное и утопически-коммунистическое (последнее нами подробно не рассматривалось, но отметим деятельность Пифагора в этом отношении, создавшего соответствующее сообщество людей, в котором причудливо сочетались высокие цели, - воспитание гармонически развитого человека, построение общества изобилия и справедливости, и неправедные средства, вождизм, тоталитаризм, что и привело.к развалу этого общества). Все эти взгляды переплетались в творчестве философов античности, в частности, в направлениях скептицизма, кинизма, эклектизма, стоицизма. Последний (виднейшими его представителями были Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) иллюстрирует наиболее стойкое, может быть, и долговременное проявление этической мысли античности на принципах синтеза представлений о неотвратимой судьбе и о богах, и стойкости духа человека несмотря ни на что, его непоколебимой вере в свое предназначение.
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях, изречениях знаменитых философов. - М., 1979 г.
Дружинин В.Ф. Философские основы психологии. - М, 1996 г.
Кар Лукреций. О природе вещей. - М, 1958 г.
Маркс К. Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура / Из ранних произведений. - М., 1956 г.
Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. - М. 1989 г.
Вопросы для самоконтроля
1. Определите, какое из направлений в античной этике можно с наибольшим основанием охарактеризовать как чувственно-гедонистическое:
1) этика Платона;
2) стоицизм;
3) эпикуреизм;
4) этика Аристотеля.
2. Кому принадлежит термин «этика»:
1) Пифагору; 3) Цицерону;
2) Аристотелю; 4) Марку Аврелию.
3. Кого из названных философов античности считают основателем материалистической психологии:
1) Аристотеля; 3) Гераклита;
2) Платона; 4) Лукреция Кара.
4. В центре внимания античных философов находится проблема счастья. Как жить, чтобы быть счастливым? Но счастье все понимают по-разному.
Чьим взглядам соответствует следующее понимание счастья: счастье - это деятельность согласно добродетели на благо государства, народа:
1) Платона;
2) Эпикура;
3) Аристотеля.
5. Какое из направлений в античной этике можно охарактеризовать как «этику долга»:
1) эпикуреизм;
2) кинизм;
3) стоицизм;
4) платонизм;
1. Самоосуществление как благо и счастье
2. Классификация добродетелей
3. Конкретный характер этики Аристотеля
4. Поэтика (учение об искусстве) Аристотеля
5. Педагогика Аристотеля
Учение о человеке и государстве изложено Аристотелем в трактатах «Этика» и «Политика». Естественной сущностью человека, считал философ, является жизнь в государстве. Человека он характеризовал как общественное, или политическое, существо. Положением человека в обществе и его отношением к государству философ обосновывал свои моральные принципы. Государство и общество требуют от гражданина определенных добродетелей.
Самоосуществление как благо и счастье
1. Действительность блага
Как каждое отдельное человеческое действие, так и человеческая деятельность в целом должна иметь цель, и притом высшую цель, которая должна быть преследуема не ввиду каких-либо других целей, но ради себя самой. Она не есть благо между благами, но полнота блага. Без такой конечной цели все наше действие, вся наша воля не имели бы подлинного предмета, все желания были бы тщетны, бесцельны в своем основании: наша воля имела бы лишь бесконечный ряд призрачных целей, каждая из которых, в свою очередь, являлась бы средством для других столь же призрачных, недействительных целей и т.д.
Эту конечную цель называют благом или высшим благом. Одни люди, видя его в наслаждении, стремятся к жизни, исполненной удовольствий; другие стремятся к приобретению внешних благ или почестей и власти, посвящая свою жизнь общественной деятельности; третьи предаются теоретической, научной или философской деятельности. Все хотят быть счастливыми: стремясь к наслаждениям, богатству, почестям, познанию, люди стремятся достигнуть этих благ ради них самих (и вместе с тем, ради счастья).
По учению Платона и мегариков, это благо лежит вне мира, оно отрешено от мира; но поэтому оно отделено и от человека и постольку недостижимо для него. Сообразно же духу всей своей философии Аристотель желает видеть высшее благо чем-то действительным.
2. Необходимость добродетели
Но в чем же заключается истинное человеческое счастье? Очевидно, оно не может и не должно зависеть от случая, от слепого каприза судьбы. Жизнь, исполненная чувственных утех, не есть достойная цель стремлений разумного человека: это – скорее скотская, чем человеческая жизнь. Внешние блага сами по себе не могут быть конечною целью, а только средствами для целей нашего счастья.
По-видимому, добродетель является целью, которую мы можем желать и ради нее самой, и ради нашего счастья; но и она еще не доставляет счастья человеку, поверженному в бедствия и страдания.
3. Счастье как успешная деятельность по самоосуществлению
Аристотель приходит к выводу, что счастье состоит не в чем ином, как в успешной деятельности человека, в осуществлении тех энергий, тех деятельностей, которые свойственны ему по природе. Человек – не пассивное, а деятельное существо, поэтому и счастье его заключается в успешной, беспрепятственной деятельности; и самое счастье – не вещь, но действие. Недостаточно быть красивым, добродетельным и сильным, чтобы приобрести победу, – нужно действовать, подвизаться. Счастье заключается в успешном, добром осуществлении разумных деятельностей человеческой души.
Условием для такой деятельности является обладание особыми к ней способностями или добродетелями и, в то же время, совокупностью средств, нужных для ее осуществления. – В этом вопросе Аристотель удаляется и от киников, и от гедонистов. Он необходимо предполагает для счастливой жизни прежде всего полноту гармонического развития личности, всех истинно человеческих способностей и сил: дитя не может быть блаженным. А такое полное, беспрепятственное развитие человеческой деятельности обусловливается обладанием всеми потребными к тому жизненными средствами: нужны и богатство, и друзья, и здоровье.
4. Внутреннее счастье
Правда, внешние блага не безусловно необходимы: ибо тот, кто достиг своего внутреннего счастья, не может быть несчастен, даже там, где он повержен в самые глубокие бедствия; но вместе с тем он не будет и блаженствовать, если на него обрушатся все беды Приама. Высший принцип счастья есть мера. Поступать несправедливо есть зло и терпеть несправедливость есть также зло; в первом случае человек сам преступает меру, а во втором – он терпит ущерб. Но лучше самому терпеть несправедливость, чем делать ее другим: ибо несправедливое действие связано с порочностью самого действующего.
Удовольствие и деятельность не суть исключающие друг друга понятия. Напротив, удовольствие есть естественный результат успешной, нормальной деятельности субъекта; оно обусловлено ею и есть ее завершение и увенчание. Удовольствие естественное и непосредственное так же связано с нормальной совершенной деятельностью, как красота и здоровье связаны с совершенным развитием тела. А потому оно есть естественный результат всякой нормальной жизнедеятельности. Счастье без удовольствия не было бы счастьем; но счастье, которое есть благая совершенная деятельность, необходимо влечет за собою удовольствие.
Удовольствие не должно быть целью и мотивом нашего действия, но оно есть необходимое следствие деятельности, согласной с природой человека. Если бы эта деятельность и удовольствие были отделены друг от друга, то мы, конечно, предпочли бы добродетель удовольствию; но сущность добродетели как естественной человеческой разумной деятельности именно и состоит в ее нераздельности с удовольствием, т. е. в непосредственном удовлетворении в самой деятельности – независимо от внешних последствий или соображений. Все блага жизни желательны для этой деятельности как средства – и не более.
5. Назначение человека
Поэтому поступки, сообразные с назначением человека, приятны сами по себе, и добродетельная жизнь имеет удовольствие в себе самой. Т. обр., наслаждение, удовлетворение, вытекающее из благой деятельности, есть благо, которое неотделимо от счастья. Таким наслаждением обладает и Бог. И оно есть благо не только как плод успешной деятельности, но также и потому, что укрепляет, возбуждает, поощряет ту деятельность, из коей оно вытекает (например, удовольствие мышления). Тот, кто не испытывает удовлетворения добродетели, не может быть добродетельным.
Из энергии или деятельности низших сил и способностей человека возникают низшие – чувственные удовольствия. Их цена определяется значением и достоинством той деятельности, из которой они возникают, напр., удовольствия, получаемые нами через зрение, выше, чем удовольствия, которые дает нам осязание. Сколько различных энергий, деятельностей, родов бытия, столько различных видов удовлетворения. И все они расцениваются по своему соотношению к высшей, разумной, существенно человеческой деятельности – добродетели. Высшее удовольствие есть удовлетворение этой деятельности, этой энергии разумного человеческого существа. Остальные удовольствия – животной части нашего существа, удовольствия, соответствующие низшим, телесным энергиям и потребностям, имеют свою цену, поскольку не препятствуют добродетели, совмещаются с нею. Но они не заслуживают даже названия удовольствия, когда мы злоупотребляем ими и предаемся излишествам. Собственно истинные удовольствия человека суть удовольствия доброго, умеренного человека.
Наконец, к счастью, которое прежде всего есть деятельность, относится, по Аристотелю, и досуг в противоположность труду. Непрерывное напряжение невозможно в успешной, нормальной деятельности: нужен отдых, освежение от усталости, в особенности при таких занятиях, которым мы предаемся не ради них самих, но в виду каких-либо внешних целей, и в занятиях, сопряженных с заботами и тяжелым трудом. – Конечно, труды и заботы, принимаемые человеком, должны служить не для развлечения или простой утехи его, но самая утеха должна служить делу, ибо она, доставляя человеку отдохновение и развлечение, имеет место в его жизни, нужна для его счастья. Само собой разумеется, что и досуг, и развлечения должны служить одной верховной цели – счастью человека – в гармоническом развитии его человечности, его разумного существа. Разумное веселье, благопристойное общение с людьми, эстетические наслаждения, наука должны наполнять досуг человека; в особенности же – философия, кот. есть высший род деятельности и в то же время высший род отдыха (σχολη) – в противоположность активной жизни, практической деятельности.
7. Благо – в самой жизни
Итак, высшее благо лежит не за пределами мира, а в самой жизни и есть лишь ее всестороннее, совершенное развитие. Соответственно этому понятию высшего блага Аристотель понимает и добродетель: она состоит не в отчуждении от действительности, не в аскетическом отрешении от мира, но в совершенном достижении целей чел. жизни, в совершенном развитии человека, – в том, что ему всего более свойственно.
У Аристотеля мы встречаемся с тем понятием добродетели, которое было обще всем древним. Это – не добродетель в нашем смысле слова, а прежде всего хорошее качество (добротность). По Аристотелю она есть высшее развитие энергии данного существа.
Т. обр., предмет аристотелевской этики – сфера человеческой практики как деятельности, основанной на выборе. Тем самым она отделена от теоретической философии, ориентированной на неизменное, вечное. Любое существо по своей природе стремится (благодаря энтелехии?) к специфическому для него благу, в котором находит свою конечную цель. Для человека благо есть деятельность души сообразно с разумом. В нем человек обретает эвдемонию (блаженство) как конечную цель своего стремления, независимую от внешних обстоятельств. "Если назначение человека – деятельность души, согласованная с суждением... и мы полагаем, что каждое дело делается хорошо, когда его исполняют сообразно присущей ему добродетели, ... то человеческое благо представляет собою деятельность души сообразно добродетели..." ("Никомахова этика").
Классификация добродетелей
1. Характер и разум
Деятельность человека есть отчасти практическая, отчасти теоретическая: он – существо чувствующее и познающее. Сообразно этим 2-м сторонам его деятельности и его существа – его характеру и его рассудку (διανοια) – и добродетели распадаются на этические (нравственные) и дианоэтические (умственные).
Наряду с теоретической частью души философ признает и желательную часть (ηθοζ), которая вмещает в себя совокупность аффектов, волнений, желаний. Чувства делятся на приятные и неприятные. Всякая деятельность может испытывать препятствия, сопротивление, или же, наоборот, она может развиваться успешно и беспрепятственно: удовольствие возникает из успешного, беспрепятственного развития естественной нормальной энергии, удовлетворяющейся своим собственным действием. – Из удовольствия и страдания рождаются частью аффекты, страсти, частью желания и похоти. К аффектам относятся прежде всего те, которые деятельно направляются против зла (χαχον). Совокупность их есть воля (θυμοζ), как и у Платона – лучшая часть желательной части души; совокупность похотей – зло? (επνουμια).
Государство и общество требуют от гражданина определенных добродетелей, но эти похвальные свойства души различны. Аристотель разделил их на 2 категории: этические и дианоэтические. Этические добродетели идут от характера человека и приобретаются путем воспитания в нем хороших привычек, а дианоэтические – идут от рассудка человека и приобретаются путем обучения.
2. Этические добродетели
Этические добродетели человек находит уже готовыми. Их он получает благодаря сложившемуся в обществе порядку и от государства (полис). Они приобретают свою значимость от традиции и в результате общего одобрения (таковы, напр., осмотрительность, великодушие). Научение сложившимся в полисе ценностям составляет, по Аристотелю, существенную часть нравственного развития.
Но по сути этическая добродетель – это только добротность животной души человека.
По конкретному содержанию этическая добродетель определяется как середина (месотес) между ложными крайностями. Таковы, напр., мужество (трусость – ярость); умеренность (сладострастие – безразличие); великодушие (скупость – расточительство).
Особое значение придается справедливости, важнейшей из добродетелей с т. зр. жизни в обществе. В качестве раздающей она заботится о справедливом распределении в обществе благ и почестей, в качестве примиряющей она восполняет причиненный ущерб.
Другая важная добродетель – дружба, в которой человек совершает переход от индивидуальной жизни к общей. Этическая добродетель связана с необходимостью ведения общественной жизни (не кради, не убивай, без суда не наказывай человека). У древних греков этика почти непринужденно переходила в рассуждения о государственном устройстве, и считалась вещью утилитарной.
3. Дианоэтические добродетели
Дианоэтические добродетели заключаются в чистой деятельности самого разума, который Аристотель делит на теоретический и практический. Решающей для нравственной деятельности из этих добродетелей являтеся благоразумие (фронесис). – Дианоэтические добродетели обнимают собой совершенные свойства разумной части души, т. е. познавательной и рассудительной способности ее.
Аристотель ставит их выше практических добродетелей: ибо высшая добродетель, наиболее бескорыстная, самодовлеющая, чистая и вместе с тем доставляющая самое высокое и чистое наслаждение, есть не практическая добродетель, а чистое созерцание сущего – θεωρια, в которой человек приближается к божеству и уподобляется ему.
Разумную часть души Аристотель тоже делит на 2 вида: собственно разумную и рассудочную часть. Рассудочная часть ответственна за разум практический, т.е. за то, как человек живет в материальном мире среди людей, в семье, в обществе. Эта часть души ответственна за то, чтобы направить наши аффекты, наши чувства в необходимое русло. Собственно разум является созерцательной частью души и ответствен за научное познание мира. Этот разум и имеет, по Аристотелю, высшую добродетель. – Рассудок – это практический разум, добродетель – это практичность, т. е. умение вести людские дела. Блаженство же дается только мудростью, а не практичностью. Мудрость выше всех др. добродетелей, мудрость – добродетель собственно разумной части души. Только Бог обладает этой добродетелью. Он созерцает Себя, поэтому высшей добродетелью (дианоэтической) человека является созерцание Бога.
4. Высокая оценка диано-этических добродетелей
Как видим, диано-этические (теоретические) качества имеют большее значение, потому что человек отличается от животных умом, поэтому употребление ума является и проявлением высшего отличия человека от животных и, тем самым, некоей задачей; когда человек занимается умственной деятельностью, то он проявляет свою высшую способность и, тем самым, он утверждает себя высшим произведением природы. Поэтому чисто умственная деятельность предлагалась как дающая удовлетворение в жизни. Сейчас так никто не думает, мы на знание смотрим как на вещь утилитарную, знание – средство для приобретения силы («знание – сила»). У древних греков знание само по себе – ценность, умственная деятельность сама по себя является целью, достижение которой приносит высшее блаженство, на которое только способен человек. Они презирали физический труд, что нам кажется нелепым (особенно в христианскую эпоху). Умственный труд, который не имеет утилитарного значения, философия, напр., был высшим проявлением чел. существа.
5. Нравственное поведение и свобода
Нравственное поведение (хэксис) человека складывается лишь во взаимодействии благоразумия (дианоэтической добродетели) и этической добродетели: «...в существенном отношении невозможно быть нравственным, не будучи благоразумным и благоразумным – без этической добродетели». При этом главным образом на долю благоразумия выпадает задача познания правильных средств и методов, ведущих к благу, в то время как этические добродетели определяют его как цель.
То и другое вместе определяют волю (булесис) к выбору блага, указывая желанию правильную цель при помощи понимания. Так природным влечениям придается форма, и человек становится хозяином своих страстей (аффектов). При этом свободу воли Аристотель не подвергает ни малейшему сомнению. «Если, таким образом, этическая добродетель есть сдерживание воли, а воля – обдуманное желание, то тогда понимание должно быть истинно, а желание – правильно, если выбор будет направлен на благо, и одно и то же должно быть и принято мышлением, и искомо желанием».
Не существует какой-либо высшей необходимости, судьбы, рока, что играло бы человеком и отрицало бы его ответственность за собственные действия. Человек свободен, и в его власти находится быть добродетельным или порочным. Добродетель не дается от природы, она достигается человеком посредством воспитания и образования. Для позиции Аристотеля характерно, что нравственное поведение уже не возникает только лишь из понимания, а приобретается благодаря практическим навыкам. Поэтому тут надо слушать человека с опытом.
6. Добродетель как поступок
Итак, для нравственной добродетели нужно знание блага, разум, без которого нельзя хорошо и разумно поступить. Но добродетель состоит не в знании, а в неизменно-благом действии воли, в неизменном направлении воли на то, что она признала за благо; и это – не из-за каких-либо внешних мотивов, а произвольно, в силу свободного, сознательного выбора.
В искусстве и науке достаточно, чтобы результат был хорош, все равно как бы он ни был добыт. В нравственной деятельности спрашивается, как было сделано дело, каков был человек, совершивший его. Спрашивается:
– во-первых, сознательно ли он поступал,
– во-вторых, по собственному ли выбору и притом помимо ли внешних побуждений он выбирал,
– и наконец, в-третьих, действовал ли он в силу случайного аффекта или твердого и непоколебимого направления характера?
Вершиной нравственного поведения является волевое подчинение низших сил и энергий души, ее движений, страстей и желаний справедливым требованиям разума, – тому, что он предписывает как справедливое и доброе. Таким образом, разумная природа человека достигает своего совершенного развития, своего всестороннего выражения и воплощения во всех его способностях, силах и деятельностях. Это – высшая творческая форма и вместе с тем конечная цель человека. В этом его назначение и в этом его счастье.
Итак, воля есть источник добродетели; дело идет не только о знании нравственных правил, как думал Сократ, а об их деятельном [основанном на упражнении] применении. Аристотель возражает против сократовского интеллектуализма, по которому безнравственные поступки возникают лишь от незнания. Согласно Аристотелю, в человеке существуют и воля, и разум, и одно к другому часто не сводится. Человек обязан контролировать поступки. Свободной волей осуществляется господство разума. Третью книгу "Этики" Аристотель посвящает тонкому анализу понятий о свободе воли и вменяемости человеческих поступков.
Существуют врожденные способности, которые мы наблюдаем, напр., у детей и у животных. Они без нравственного развития могут стать вредными и лишь путем упражнения и воспитания превращаются в настоящие нравственные качества. Для истинной добродетели, помимо способностей, требуется еще разум и упражнение: добродетель определяется как свойство человека, в котором он утверждается путем разумного согласия и произвольного выбора, и притом такое свойство, которое руководствуется определениями разума.
7. Метриопатия
Но, спрашивается, в чем же состоит то благо, которое разум предписывает по отношению к нашим аффектам и действиям? Разум во всем приписывает середину (меру) между недостатком и излишком. Во всяком желании и деятельности есть 3 вещи: недостаток, излишек и середина. И во всем только середина, только равновесие – хорошо, полезно и похвально. Всякое совершенное, законченное произведение искусства мы называем прекрасным именно потому, что в нем ничего нельзя ни убавить, ни прибавить. Мера есть верховный, нравственный принцип эллинского народа; на нее указывает и этика Аристотеля, представляющая из себя систематический анализ его нрав. понятий. Соблюдение середины (μεσοτηζ, умеренность, метриопатия) делает человека добрым и все дела его – удачными, хорошими, совершенными, а следовательно, в нем и заключается добродетель, дающая благо человеку.
МЕТРИОПАТИЯ (греч. metriopatheia, от metrios – умеренный и pathos – страсть) – понятие древнегреческой этики, означающее умеренность в страстях, противополагалась апатии. Развито Демокритом и Эпикуром, центральный принцип этики Аристотеля: добродетель как середина между двумя крайностями (напр., щедрость – середина между скупостью и расточительностью).
Итак, добродетель есть поведение, избегающее крайности – как избытка, так и недостатка; она есть середина между двумя противоположными пороками, из которых один переступает границу должного, а другой не доходит до нее. Так, храбрость есть середина между безрассудством и трусостью, умеренность – середина между распущенностью и бесчувственностью, щедрость – середина между скупостью и мотовством, – кротость – середина между вспыльчивостью и чрезмерным хладнокровием.
В целом добродетель Аристотель определял как «средину двух пороков», т. е. избытка и недостатка чего-либо. Например, недостаток мужества – это трусость, а избыток мужества – это безрассудная отвага. Основа добродетели – умеренность. Добродетель гражданина состоит в способности повиноваться властям и законам, тогда как для того, кто властвует, необходима не только добродетель гражданина, но и добродетель человека.
Конкретный характер этики Аристотеля
1. Неповторимость поступка
Аристотель говорит, что познание овладевает лишь тем, что необходимо, а значит, «случайное [акцидентальное] сокрыто от чистого разума». В противовес разуму, который ищет в мире только необходимое и тем отбрасывает все случайное, неповторимое, в противовес науке, которая ищет лишь общие теории, – Аристотель дает понять, что необходимости в частном опыте нет. Этика Аристотеля есть этика добродетелей, и она имеет дело с поступками, рассматривает проблему правильного, достойного поведения конкретного индивида в конкретной ситуации.
Добродетельный индивид потому и является добродетельным, что он обладает не только знанием общего, но и знанием частного, так как поступок всегда связан с частным, всегда единичен, единственен – направлен на конкретное лицо и совершается в конкретных обстоятельствах. Более того, знанием частного он обладает в большей степени, чем знанием общего. Добродетель для Аристотеля не сводится к правилам, принципам (хотя и не исключает их), она – и это составляет самый существенный и специфичный момент этического выбора – имеет дело «с последней данностью, для постижения которой существует не наука, а чувство» (EN, 1141 a).
2. Единичное в поступке
Аристотель исходит из того, что не существует исчерпывающего набора свойств, по наличию или отсутствию которых можно было бы судить о добродетельности поступка; так, например, добродетель есть середина, но середина не как арифметическая средняя или некое абстрактное совершенство, а середина по отношению к тому, кто действует. «Те, кто совершает поступки, всегда должны сами иметь в виду их уместность и своевременность» (EN, 1104 a).
Если исходить из расчленения поступка на общее и единичное, то этическая стратегия Аристотеля направлена на единичное, и критерием, масштабом добродетельного выбора, посредствующим звеном между общим и единичным является, в конечном счете, сам добродетельный индивид. Получается, что добродетельный поступок, составляющий предмет и цель этики, есть поступок добродетельного человека. Или, говоря по-другому, добродетельный индивид является добродетельным не в силу того, что он в своем выборе следует определенным независимо от него заданным и существующим этическим критериям. Напротив, конкретный выбор приобретает этическое качество по той причине, что он является выбором (поступком) добродетельного индивида.
Аристотель исходит из человеческой ситуации – ситуации поступка. Она состоит в том, что здесь делается выбор в условиях принципиальной неопределенности результата и что сам этот результат не существует вне отношения к нему того, кто делает выбор. Этически значимые решения по Аристотелю касаются того, что «зависит от нас и осуществляется в поступках", "чей исход неясен и в чем заключена неопределенность» (EN, 1112 a, b).
3. Жизненный подход – против отвлеченных принципов
Аристотель решает задачу, которая и составляет собственный предмет этики – как при этом возможны правильные, нравственно ответственные поступки. Как поступать, чтобы остаться верным человеческому предназначению? Аристотель пошел навстречу поступку в его частном, индивидуально-неповторимом качестве, полагая, что в этом случае наилучшим из возможных гарантий и критериев совершенного (добродетельного) выбора является совершенный (добродетельный) индивид с присущими ему рассудительностью и жизненным тактом – а не с отвлеченными принципами.
Аристотель отрывает этику от метафизики и закрывает для нее перспективу платоновского занебесного блага на том основании, что этику должно интересовать не вообще благо, не идея блага, а конкретно-осуществимое человеческое благо. Аристотель прекрасно понимает, что поступок, конечно, невозможен без своего субъективного основания – более того, преднамеренность Аристотель считает существенным признаком этически вменяемого решения. Поступок выводит человека в мир, прежде всего в мир людей – в этом смысл поступка, его назначение.
4. Нерегламентируемость морали
Специфическое место морали в обществе в отличие от других форм организации, упорядочения, регулирования межчеловеческих отношений определяется следующим: она вступает в действие и оказывается исключительно продуктивной там, где эти отношения не поддаются внешне контролируемой, гарантированной организации, упорядочению, регулированию. В той мере, в какой межчеловеческие отношения являются устойчивыми, внутренне схематизированными, повторяемыми, поддаются клишированию, они структурируются в более или менее жесткой форме обычаев, традиций, ритуалов, юридических законов и т. д. Но именно там и тогда, где они обнаруживаются в своей уникальности, единичности и принципиально непредсказуемой открытости, начинается царство морали.
Если мы задумаемся над тем, где и когда мы применяем моральные оценки, называя что-то "подлым", "честным", "порядочным" и т. д., то мы легко установим, что это всегда происходит в ситуациях, которые не поддаются квалификации в рамках твердо установленных общественных канонов и к которым просто нельзя применить других форм наказания или поощрения. Принципиальная нерегламентируемость моральной сферы удостоверяется тем, что ее проще описать отрицательно – как то, что не является обычаем, ритуалом, правом и т. д. Место морали и есть место встречи человека с человеком, заполненное поступками. Мораль находится там, где я принимаю решение. Здесь существенно и то, что это – Я, и то, что я принимаю решение, т. е. я не ограничиваюсь тем, что остаюсь верен себе, сознанием своего тождества с самим собой, но плюс к тому я еще воплощаюсь в частность принимаемого решения, беря на себя ответственность за него в полном объеме и, прежде всего, в той части, в какой оно сопряжено с риском неопределенности.
Пространство морали – ниша свободы. Более того: мораль сама есть эта ниша, и Аристотель борется за правомерность этой свободы…
5. Важность правильных суждений
Аристотель настаивал на самостоятельности этики как науки, усматривая ее в том, что ее целью являются поступки и в открытой полемике с интеллектуализмом Сократа и Платона видел в добродетели навык, складывающийся в практической деятельности устой души. Но и он в конечном счете – в отличие от софистов – ставил добродетельный склад души в зависимость от правильных суждений, а высшую (первую) эвдемонию отождествлял с философско-созерцательной деятельностью.
Из теоретического (познавательного) отношения к миру осуществить переход в практическое отношение принципиально невозможно. Из того обстоятельства, что одни утверждения являются истинными, а другие ложными, вовсе не вытекает, что я должен истину предпочитать лжи. Много людей и во многих случаях поступают наоборот. Из того факта, что курение вредно для здоровья, не следует, что Иванов должен бросить курить. Он-то как раз этого не делает. Даже категорическое этико-религиозное требование "не убий" само по себе не имеет нравственно обязывающего смысла. Люди не только убивают, но находят особое удовольствие в том, чтобы делать это по моральным (как они их понимают) основаниям и с религиозно-церковного благословения. Из "есть" не следует "должно". Из того, что в мире действуют такие-то и такие-то законы, совсем не вытекает, что я здесь на своем единственном месте должен совершить такой-то поступок. Все попытки изнутри теоретического мира пробиться в действительное бытие события безнадежны. Почему?
Логический силлогизм и "силлогизм" поступка – разные вещи. Логический силлогизм, поскольку он имеет дело с действиями, обобщает, выявляет их общие черты, выстраивает в ряд, отсекает в каждом единичном действии то, что делает его единственным, неповторимым, отличным от всего остального, т.е. поступком. "Силлогизм" поступка, напротив, выносит из действия за скобки все, что объединяет его с другими действиями, чтобы дойти до его единственной изначальности; он начинается там, где кончаются все возможные операции логической силлогистики. В логическом теоретико-познавательном образе мира нет места произвольной единственности моего бытия, нет меня самого в той подлинности, которая позволяет мне ответственно поступать. Я включен в теоретический мир в той мере, в какой я совпадаю с другими, детерминирован внешними причинами, встраиваем в закономерные ряды в качестве тела, живого существа, случайной величины и т.д., т.е. в той мере, в какой я не есть я. И там нет места мне, поскольку я ни к кому и ни к чему не сводим, а равен самому себе, поскольку я в своей единичности единственен, являюсь активно действующей, бытийной величиной, которая не попадает под законы и правила, так как сама их творит. Теоретический (логический, познаваемый) мир безличен и основателен, всегда на что-то опирается. Поступок индивидуален и безосновен.
В теоретическом мире вещи становятся атомами, телами, числами, квантами, реципиентами, служащими, больными, чемпионами, пешеходами и т.п., оставаясь единичными, но лишаясь единственности. Это – условие их вхождения в него. У поступка, напротив, нет другой категории, кроме нравственно ответственного субъекта, способного совершать поступки, т.е. кроме его единственности. Я-поступку не только нет места в теоретическом мире. Он потому только и становится поступком, что не вмещается в этот мир, выпадает из него.
Теоретический мир "живет" по своим имманентным законам. Это – как бы самопроизвольно развивающийся мир, существующий наряду, параллельно с реальным миром, но независимо от него. Поскольку мы вошли в него, т. е. совершили акт отвлечения, мы уже во власти его автономной законности, точнее, нас просто нет в нем как индивидуально ответственно активных. Субъектность теоретического мира, мира познания вообще является сугубо функциональной. Здесь субъект представляет не себя, а закономерную нагруженность мира.
6. Человек рождает поступок
Аристотель говорил, что человек является началом поступков подобно тому, как отец является началом ребенка. Это сравнение, совсем неслучайное в устах Аристотеля, хорошо проясняет суть дела.
Во-первых, оно дает наглядное представление о том, что такое поступок. Ребенок есть поступок. Поступок отца. Ребенок представляет собой изменение в самом бытии, его развитие, увеличение, новую завязь на древе бытия. Такова природа всякого поступка, самого поступления как бытийного акта.
Во-вторых, поступок есть нечто столь же серьезное, неотвратимое, роковое, вечное и беспокойное как ребенок. Совершая поступки, творя их, человек создает, творит самого себя. Он совершает, творит поступок навечно. Он не может отменить раз совершенный поступок, отказаться от него точно так же, как отец не может отменить, отказаться от ребенка, ибо, отказавшись от него, он оказывается привязан к нему более глубоко и трагично, чем до того, как он отказался.
Наконец, в-третьих (а это главное), единственным решающим основанием поступка, без которого этот поступок в его единственности никогда бы не совершился, является совершившая его нравственная личность как и единственным решающим основанием (началом) ребенка, без которого он никогда бы не появился на свет, является его отец. Как отец не может сказать, что не только он виноват в появлении ребенка, так и нравственный субъект не может сказать, что не только он виноват в совершении поступка. Правда, для этого и тот и другой должны взглянуть на вещи изнутри.
7. Поступок как переход из возможности в действительность
Взгляд на поступок изнутри, когда нравственный субъект видит в поступке себя, есть единственно возможная точка зрения, которая позволяет его увидеть. Поступок следует за решением, он есть результат решимости. Он переводит возможность (одну из многих, бесчисленных возможностей) в единственную действительность. Его нельзя обернуть назад, он совершен раз и навсегда и в этом смысле безысходен. Если уж Рубикон перейден, то он перейден. И это невозможно исправить. Поступок впечатывается в бытие. Как факт бытия он абсолютен. Про него нельзя сказать, что он истинен; он сам есть истина.
Личность воплощается в поступке. Поступок – это факт моего не-алиби в бытии, лежащий в основе самого конкретного и единственного долженствования поступка, не узнается и не познается мною, а единственным образом признается и утверждается.
Поэтика (учение об искусстве) Аристотеля
Частью практической философии Аристотеля является также поэтика (учение об искусстве). В одноименном сочинении Аристотель излагает теорию поэтического творчества, особенно в области трагедии, оказывающей наиболее сильное воздействие. Вот важнейшие понятия этой теории:
1) подражание (мимесис): искусство должно подражать действительности, но не воспроизводить ее (в отличие от истории);
2) единство действия, времени и места: действие должно быть внутренне целостным, последовательным и законченным, а его длительность не должна выходить за рамки светового дня;
3) катарсис (очищение): искусство должно просветлять человека по мере того как он отождествляет себя с действующими лицами и благодаря этому разряжает свои аффекты в другой сфере.
Суть искусства – подражание (мимесис), цель трагедии – "очищение" духа (катарсис).
Педагогика Аристотеля
«Усвоение преподанного зависит от привычек слушателя; какие у нас сложились привычки, такого изложения мы и требуем, и то, что говорят против обыкновения, кажется неподходящим, а из-за непривычности – более непонятным и чуждым, ибо привычное более понятно. А какую силу имеет привычное, показывают законы, в которых то, что выражено в форме мифов и по-детски просто, благодаря привычке имеет большую силу, нежели знание самих законов. Одни не воспринимают преподанного, если излагают математически, другие – если не приводят примеров, третьи требуют, чтобы приводилось свидетельство поэта. И одни хотят, чтобы все излагалось точно, а других точность тяготит или потому, что они не в состоянии связать [одно с другим], или потому, что считают точность мелочностью. В самом деле, есть у точности что-то такое, из-за чего она как в делах, так и в рассуждениях некоторым кажется низменной». (Там же, II 2, 995a 1-12).
Литература: Thuret, Etudes sur Aristote, 1860; Dareste, La science du droit en Grece, 1893; стр. 163-298; Van der Best, Platon et Aristote, essai sur les commencements de la science politique, 1876; Gildebrand, Geschichte und System der Rechts - und Staatshilosophie, т. I, 1860, стр. 250-498, Oncken, Die Staatslehre des Aristotles, 2 в. 1870 и 1875; Siebeck, Aristoteles, 1899 (рус. перев. 1903); Gercke, Aristoteles und Athen; Grote, Aristotle, 2 т. 1872; Wallace, Outlines of the philosophie of Aristotel. 1883.
I. С начала IV века до Р. Хр. в Греции образуются две школы, идущие от Сократа и в то же время диаметрально противоположные по характеру своего учения. Это циническая (Антисфен) и киренайская (Аристипп). Обе они имеют общий исходный пункт в воззрении, что счастье человека, составляющее цель его жизни, состоит в возможно полном удовлетворении потребностей.
С точки зрения циников, чем у человека меньше потребностей, тем легче их удовлетворить, тем достижимее счастье. Практический вывод тот, что человек должен по возможности ограничить круг своих потребностей. Так как потребности создаются общественной и государственной жизнью, то человек должен держаться как можно дальше от других людей. В известном анекдоте о том, как циник Диоген просил Александра Македонского не заслонять ему солнца, выражена аллегорически та мысль циников, что государство, предлагая человеку ряд новых благ, лишь отдаляет человека от природы. Понятно, что отношение циников к вопросам государственной и правовой жизни должно было быть совершенно отрицательным.
Иное решение этического вопроса дает киренайская философия. Если достоверны только наши ощущения, среди которых отличаются приятные и неприятные, то счастье человека будет тем полнее, чем больше количественно и выше качественно испытываемые им наслаждения. А для этого необходимо расширение и утончение потребностей. Благоразумие является руководителем человека в деле развития потребностей и нахождения способов их удовлетворения. Логически следовало бы ожидать, что киренайская школа придаст огромное значение общественной жизни, как среды, в которой развиваются потребности, и государству, как условию разумного направления этих потребностей по пути их удовлетворения. Но совершенно непоследовательно киренаики приходят к практическому выводу циников и предлагают человеку держаться по возможности дальше от государственных интересов.
То и другое воззрение стоят вполне на почве индивидуальной этики. Как для циников, так и для киренаиков общество и государство не составляют условия для нравственного усовершенствования. Может быть, однако, что человек не в состоянии отрешиться от общества, если он по природе существо общительное. Человеку нельзя сделаться чуждым того, что составляет его природу.
Исследование общественной жизни, постановка новых идеалов могли ожидаться теперь, в IV веке до Р. Хр., не со стороны философов, отрицавших, подобно Сократу и его ученикам, пользу научного знания, и не со стороны простых подражателей иноземным порядкам*(171) , а со стороны ученых, проникнутых духом положительного знания. Не поверили ближайшие потомки великому учителю, будто геометрия полезна только для измерения полей, и пошли далеко по пути научного исследования. В Греции IV века до Р. Хр. - время высшего развития и выдающихся успехов науки. Математика, как твердая опора против скептицизма, география, расширившая поле зрения узко - национальных эллинов, естествознание, давшее огромный новый материал для мысли, развившаяся на его почве медицина - все это вызвало целый переворот в миросозерцании греков. От размышлений о мире и жизни перешли к изучению их.
В этот исторический момент появляется величайший греческий ученый и мыслитель, Аристотель.
II. В городе Стагире, близ Афона, в семье врача Никомаха, бывшего весьма близким ко двору македонского царя Аминты, родился в 384 году до Р. Хр. Аристотель. Семья эта принадлежала к роду, излюбленной профессией которого была медицина. Благодаря этому обстоятельству, Аристотель с малых лет проникся интересами и методами естественных наук.
Рано осиротев, юноша 17 лет устремился (367 г.) в Афины, этот умственный и художественный центр Греции. Здесь он стал усердным учеником Платона, несмотря на то, что домашняя подготовка нисколько не соответствовала поэтическому тону философии Платона. Но первоначальные научные симпатии, вынесенные из дому; и природный гений не дали Аристотелю превратиться в слепого последователя афинского философа. Оставаясь в Афинах при Платоне до самой смерти последнего (347 г.), Аристотель уклонился от того направления, куда тянул его учитель, пошел путем, преднамеченным семейными традициями и новым научным движением. Нельзя лучше выразить различие направлений ученика и учителя, чем это сделал Рафаэль в своей картине "Афинская школа": с одной стороны, Платон с воспламененным лицом, горящим взглядом, простирает свой указательный палец к небу, с другой - спокойный и холодный Аристотель указывает рукою вниз на землю*(172) . При таком разногласии трудно не верить сохранившимся рассказам о возникших между учителем и учеником разногласиях. Уважение, которое сохранял всегда последний к первому, свидетельствует лишь о его беспристрастии, о благодарности за все данное Платоном и о преклонении перед гениальной личностью учителя.
После смерти Платона Аристотель переселился в Малую Азию, к одному из мелких государей, с которым даже вступил в свойство, женившись на его племяннице. Смерть этого государя заставила Аристотеля переселиться в Митилену на Лесбосе.
В это время известность Аристотеля, а также его фамильные связи с македонским двором, побудили Филиппа пригласить его воспитателем к 13 - летнему сыну Александру (343 г.). Что именно дал великий учитель своему не менее великому ученику, трудно сказать. Но особенной нравственной близости между ними не установилось, тем более, что на третий год Александр был отвлечен уже государственными делами. Позднее Александр не раз оказывал материальную поддержку научной деятельности Аристотеля, посылал ему коллекции из Азии.
Освободившись от воспитательной обязанности, Аристотель возвращается в Афины, где создает уже свою школу, перипатетиков*(173) , в лицее. Здесь философ преподавал все отрасли знания: логику, психологию, ботанику, зоологию, астрономию, метереологию, землевладение, этику, экономию, государствоведение. В его лице наука приобрела одного из тех немногих, которые совмещали в себе все современное знание, притом освещенное одним философским мировоззрением. Таких энциклопедистов, как Аристотель, история знала немного. Притом это был настоящий основатель школы, организатор научных исследований. Под его руководством учениками был собран огромный материал по естествоведению и обществознанию. Достаточно сказать, что его школа составила описание 158 конституций государств, а также описание законов различных стран*(174) .
Смерть Александра и возмущение эллинского духа против иноземной гегемонии заставили воспитателя македонского царя покинуть Афины и свою школы. Он переселился в Халкиду на остров Эвбее, где вскоре (323 г.) и умер от болезни.
III. Сохранилось предание, будто наследники любимого ученика Аристотеля, Теофраста, ввиду поползновений пергамского царя присвоить себе оставшиеся после философа записки, спрятали их в сыром подвале, где они пробыли около столетия. По извлечении их на свет они оказались настолько испорченными, что точное восстановление текста аристотелевских произведений стало уже невозможно.
Допустим, что рассказ этот может относиться только к неизданным сочинениям Аристотеля, к лекциям и заметкам, допустим, что рассказ этот не более как вымысел. Все же приходится признать, что литературное наследие Аристотеля возбуждает не менее сомнений, чем произведения Платона. Сочинения Аристотеля, ныне известные, соединенные в сборник Андроником Радосским в первой половине первого века по Р. Хр., следовательно, спустя три с половиной столетия после смерти автора. Остается спорным, все ли попало в этот сборник и не попало ли чего лишнего.
Многих сочинений Аристотеля, на которые имеются несомненные указания, у нас нет, как напр. знаменитого сборника конституций. И дошедших произведений не все оказываются полными и исправными; так, напр., неоконченной является "Политика" и притом с совершенно перепутанной последовательностью глав*(175) . Остается невыясненным также соотношение некоторых сходных по содержанию произведений, напр. соотношение между тремя этиками: "Этика Никомаха", "Этика Эвдема" и "Большая этика". Сомнительна подлинность некоторых сочинений, приписываемых Аристотелю, ввиду того, что в Лицее литературная работа производилась не одним учителем; так, напр., можно сомневаться, сам ли Аристотель составил тот отрывок, который известен ныне под названием "Афинское государство".
Некоторые сочинения Аристотеля создали ему славу стилиста, между тем как дошедшие до нас произведения не оправдывают вовсе этой похвалы. Это находит себе объяснение в том, что Аристотель одни из своих работ предназначал для публики, сам издал их, и потому подверг тщательной обработке. Большинство же дошедших до нас сочинений, в том числе "Политика", должны быть отнесены к разряду записок, составленных в целях преподавания, а потому не подвергшихся литературной обработке.
К философии права, кроме "Политики"*(176) , имеет отношение "Этика"*(177) и "Риторика"*(178) .
VI. Аристотель отвергает платоновский мир идей, который существует будто бы независимо от постигаемых чувствами предметов. Если идея есть сущность предметов, то мыслимо ли, чтобы она существовала отдельно от того, сущность чего она составляет. Мир идей ничем не доказывается. Не зная отношения между идеями и чувственно воспринимаемыми предметами, мы не разрешает задачу познания мира, мы лишь усложняем ее. По воззрению Аристотеля идеи или родовые понятия существуют не вне вещей, а в них, как форма.
Форма, хотя и мыслится отдельно от материи, но в действительности существует всегда вместе с нею. Материя же без формы и немыслима даже. Материя - это то, из чего может образоваться вещь, форма - это материя, превращенная в вещь.
Отношение между материей и формой, возможностью (potentia) и осуществлением (actus) составляет процесс вечного движения, вечного развития. Материя содержит в себе возможность осуществления формы, форма есть осуществленная материя. Семя содержит в возможности растение, глыба мрамора - будущую статую. Растение и статуя - это осуществленные в действительности семя и мрамор.
Какую бы форму ни имела вещь, она в то же время составляет возможность новой формы. Семя есть растение в возможности, растение - дерево есть семя в осуществлении; в то же время дерево есть в возможности строительный материал, даже строение. В одном существующем содержится in potentia другое, все существующее представляет in actu то, что содержалось уже в прежде существовавшем мире, по такому представлению, является в состоянии постоянного превращения и развития.
Принятие материей формы происходит под влиянием цели. Целесообразность есть главное начало движения и процесса развития.
V. Можно было ожидать, что такой всесторонний ученый даст новое методологическое направление в области обществознания. Действительно, при изучении социальных явлений Аристотель пользуется наблюдением, которое он привык применять при изучении явлений внешнего мира. Он рекомендует даже при наблюдении переходить всегда от простого к сложному*(179) . В его расположении был огромный материал, дававший ему возможность подмечать тонкое различие в общественных явлениях.
И, тем не менее, едва ли правильно противопоставлять рационализму Платона позитивизм Аристотеля. Различие между этими двумя мыслителями скорее в степени, чем в существе. Аристотель более связан фактами, чем Платон, Аристотель более склонен изучать существующее, чем долженствующее, у Аристотеля слабее полет фантазии, нежели у Платона. Разделяя науки на теоретические, практические и поэтические, Аристотель, при изучении общественных явлений, постоянно смешивает точки зрения теоретическую и практическую. Мало соответствует признанию его позитивистом и телеологическая точка зрения, которая играет такую видную роль в миросозерцании Аристотеля.
Явления общественной жизни исследуются Аристотелем в "Этике" и "Политике". Каково же их соотношение? Некоторые склонны думать, что "Этика" дает правила индивидуального благополучия, "Политика" - правила общественного поведения. Другие полагают, что центр тяжести заключается в добродетели, составляющей предмет "Этики", тогда как "Политика" имеет в виду лишь средства осуществления добродетели. Аристотель определяет соотношение между "Этикой" и "Политикой" следующим образом. "Все науки, все искусства имеют своей целью благо; высшее из этих благ должно быть предметом высшего знания. Таким знанием является политика. Благо в политике - это справедливость, другими словами общее благо"*(180) . Эта высшая, основная наука "определяет, каковы знания, которые необходимы для существования государства, а потому должны быть изучаемы гражданами"*(181) . Этика есть часть политики, насколько нравственность составляет одно из явлений общественной, а по мнению греков, - государственной жизни.
Аристотель допускает в своих сочинениях как исследование существующего, так и назначение долженствующего. "Очевидно, одна и та же наука изучает, каково наилучшее государственное устройство, а также и то, какова природа этого устройства"*(182) . Долженствующее Аристотель понимает в двояком смысле, абсолютного и относительного, что опять - таки мало согласуется в позитивной точкой зрения. Вопрос о наилучшем государственном устройстве может быть разрешаем или со стороны абсолютно лучшего строя или со стороны относительно лучшего, применительно к образующим его элементам*(183) . Точно также превосходство законов определяется двояким образом: закон может быть наилучшим при данных условиях или безусловно*(184) .
Крупным достоинством "Этики" и "Политики" Аристотеля является систематическое изложение общественных наук. Он отказался от художественной формы диалогов, принятой в Академии, и принял научную форму, построенную на логической последовательности. Отныне его манера изложения стала образцом.
VI. Этическое учение Аристотеля построено на психологическом основании.
Природа человека заставляет его избегать всего того, что угрожает страданием, и искать всего того, что обещает удовольствие*(185) . Удовольствие дает содержание жизни, которую все существа стремятся сохранить. Именно самосохранение заставляет их стремиться к удовольствию*(186) .
Качество нашего поведения определяется удовольствием или страданием, которые сопровождают наши действия и следуют за ними*(187) . Счастье есть та цель, которая руководит нашими действиями. Добродетель, имеющая в основе это различие удовольствия и страдания, есть направление нашего поведения наилучшим образом к счастью*(188) .
Все, что служит средством достижения цели, есть благо. Средство достижения высшей цели, в которую сливаются все прочие цели, - счастие составляет высшее благо*(189) . Таким благом нельзя, конечно, признать внешние блага, как богатство, общественное положение, знатность, красота. Но, если они не обеспечивают еще, сами по себе, счастия, - они составляют условие его достижения. Обладание внешними благами не есть еще счастье, но счастье недостижимо без внешних благ. Человек не может быть счастлив, если он безобразен, низкого происхождения или одинок*(190) .
Высшее благо заключается в самой добродетели, которая есть ничто иное, как руководимая разумом деятельность*(191) . Пассивность никогда не дает счастия. В дополнение к сократовскому положению, что лучше терпеть зло, чем причинять его другим, Аристотель выдвигает положение, что лучше делать добро, чем принимать его от других.
Соответственно делению души на две части, разумную и волевую*(192) , Аристотель делит добродетели на головные (дианоэтические) и сердечные (этические). К первой группе относится мудрость, благоразумие, ко второй - мужество, щедрость, великодушие, справедливость и др.*(193) . Добродетель первого рода почти всегда является результатом образования, обучения. Добродетель же второго рода является последствием привычного образа действий*(194) . Поэтому Аристотель совершенно не разделяет мнения Сократа, будто добродетель всецело сводится к знанию, будто нельзя сознательно делать зло*(195) . Взгляд Сократа основан на игнорировании волевой стороны в душе человека. мало еще, чтобы человек знал, что делать, нужно, чтобы он, по сознательном размышлении, захотел действовать так, как подсказывает ему разум*(196) . В действительности все зависит от того, к чему человек привык. Человек становится справедливым, совершая акты справедливости, становится умеренным, проявив не раз умеренность. Без ряда действий в духе известной добродетели не сделаешься добродетельным*(197) .
Среди добродетелей, имеющих своим источником волю, Аристотель указывает на мужество, самообладание, щедрость, благородство, снисходительность, общительность, веселость, справедливость. Нельзя не заметить, что нравственный облик человека представляется Аристотелю под углом аристократического зрения. Среди перечисляемых им добродетелей не нашлось места самопожертвованию, состраданию, отзывчивости, любви к обиженным и угнетенным. На великого мыслителя наложили свою печать эллинизм и общественная среда, в которой он жил, оправдывая тем его положение, что нравственность складывается не столько под влиянием разума, сколько под действием привычного поведения и образа мыслей.
Истинная добродетель заключается в поведении, равно далеком от противоположных порочных крайностей. Высший принцип нравственного поведения состоит в соблюдении золотой середины. Мужество - это добродетель, составляющая среднюю между безрассудством и трусостью, щедрость - среднюю между расточительностью и скупостью. Очевидно, что определение этой средней возможно лишь при помощи разума так же, как и решение задачи о нахождении центра круга*(198) . Таким образом Аристотелю приходится признать выдающуюся роль разума в нравственном поведении, которую он ранее отрицал в пользу привычного образа действий.
VII. Среди добродетелей Аристотель уделяет особенное внимание справедливости.
Справедливость есть воздаяние каждому того, что ему следует. Она также состоит в золотой середине, которой является равенство между причиненной несправедливостью и несправедливостью испытанной, между полученным более, чем следовало, и обладаемым менее, чем следует. Следовательно, это есть равенство отношения*(199) .
Уравнение относится или к общей сумме благ, какая имеется в государстве, или к количеству благ, какое принадлежит каждому в отдельности*(200) . В первом случае мы имеем справедливость распределительную (justitia distributiva), во втором - справедливость уравнительную (justitia commutativa).
Справедливость первого рода состоит в том, что в государстве каждому должно быть уделено благ по его достоинству. Таков принцип справедливости распределительной. Но понимание достоинства будет в разное время и в разных условиях далеко не одинаковым: в олигархии достоинство определяется по богатству или по рождению, в аристократии - по добродетели*(201) . Распределение касается благ, материальных и нематериальных, общественного положения, власти, почета. Так как справедливость есть равенство отношения, то она может быть выражена в пропорции. Для справедливости в распределении Аристотель предлагает геометрическую пропорцию: одно лицо должно иметь благ во столько раз больше, чем другое, во сколько раз первое достойнее второго.
Справедливость в уравнении уже предполагает распределение выполненным, и касается отношений частных лиц между собой. Здесь достоинство не имеет значения. Безразлично, достойный ли человек присвоил себе что - либо из имущества человека темного или наоборот; безразлично, кто совершил прелюбодеяние, достойный или недостойный. Закон обращает внимание только на различие правонарушений; он имеет дело с лицами, как совершенно равными. Закон исследует лишь, кто причинил вред и кто потерпел, кто виновен и кто жертва*(202) .
Очевидно, мы здесь в сфере гражданского права. Это признает и сам Аристотель*(203) . Причем он делает различие, возникает ли отношение добровольно или же нет. К первым он относит: покупку, продажу, заем, поручительство, наем личный и имущественный, поклажу. Это сфера договоров. Ко вторым Аристотель причисляет: кражу, отравление, переманивание прислуги, лжесвидетельство, грабеж, увечье, оскорбление.
В области договорной справедливость проявляется в форме талиона. В обмене вещами должно принимать во внимание эквивалентность: каждый должен отдать такую же ценность, какую сам получил. Аристотель уже знаком с вопросом, что такое ценность, как и со многими другими экономическими вопросами. Ему известно различие потребительной и меновой ценности*(204) . Он понимает, что меновая ценность зависит от общности человеческих потребностей, без которых не существовало бы обмена*(205) . Чтобы обмен стал возможен, чтобы обмениваемые вещи были в каком - либо отношении соизмеримы. Таким общим измерителем ценности являются деньги, которым Аристотель приписывает еще и роль сохранителя ценности в тех случаях, когда непосредственный обмен невозможен*(206) . С точки зрения талиона, господствующего в договорных отношениях, рост не может быть допущен. И Аристотель так именно относится к росту при займах.
Во второй группе частных отношений, в которых применяется уравнительная справедливость, т. е. в правонарушениях, основной принцип состоит в нахождении средней между потерей и выгодой: каждый должен получить столько, сколько он имел до обстоятельства, вызванного не его волей*(207) . Здесь Аристотель находит возможным воспользоваться арифметической пропорцией: имущество имущество потерпевшего ущерб по вине другого должно быть настолько увеличено в ценности, насколько имущество причинившего ущерб стало больше по сравнению с ценностью, какую оно имело до правонарушения. Аристотель упускает из виду, что обогащение на стороне причинившего вред не всегда экономически соответствует обеднению на стороне потерпевшего.
Справедливости Аристотель придает такое большое значение, что сам колеблется, признать ли ее только одним из видов добродетели, или отожествить вполне с добродетелью*(208) .
VIII. Воззрения Аристотеля на сущность права его и его отличие от нравственности трудно уловимы, во - первых, ввиду крайней их разбросанности по всем сочинениям, а во - вторых, ввиду недостаточной отчетливости их в миросозерцании философа. Порой кажется, что Аристотель сливает нормы права с правилами общежития вообще, порой же отличает право от морали, обнаруживая их взаимное влияние, иногда Аристотель как будто признает правом только нормы, установленные государством, иногда ссылается на естественное право и им опровергает первые.
Аристотель оценивает вполне значение права. "Необходимо, чтобы закон сопровождал всю жизнь человека, так как большинство людей повинуются скорее необходимости, чем рассудку, и страху перед наказанием более, чем чести. Правильно указывали, что законодатель должен привлекать людей к добродетели убеждением и призывать их к долгу во имя блага, в уверенности, что сердце честных людей, подготовленное добрыми нравами, услышит этот голос, но что, помимо того, что законодатель должен установить меры воздействия и наказания против строптивых и извращенных людей и даже совершенно освобождать государство от нравственно погибших"*(209) . Весь строй политического общежития держится на праве*(210) . Только закон обладает побудительной силой, равной силе необходимости*(211) .
Вопрос о том, что лучше, быть ли под властью совершенного человека или совершенных законов, Аристотель как будто разрешает в пользу законов. основанием к тому служить то, что всякому человеку свойственны страсти; закон же всегда бесстрастен. Это не мешает однако Аристотелю, вопреки началу законности, признавать, что монарх более способен войти в обсуждение каждого отдельного случая, и что его нельзя лишать права исправлять недостатки закона*(212) . При обсуждении демократического строя Аристотель уже решительно заявляет, что государственное устройство возможно только при господстве законов, при которых органам власти остается лишь применять правила к отдельным случаям*(213) .
Аристотель указывает на отличие нравственных обязанностей от правовых*(214) . Но в то же время он выставляет положение: что законно, то и справедливо*(215) . Если нарушать законы несправедливо, а соблюдать справедливо, очевидно, что все законное вместе с тем и справедливо; все поступки, согласные с законом, законны, а все законное справедливо*(216) . Справедливость может существовать только там, где есть закон*(217) . Добродетель тем важна с государственной точки зрения, что она подготовляет повиновение законам*(218) .
Законы бывают писаные и неписаные*(219) . Неписанное право составляет все же часть правил, установленного государством*(220) . То и другое вместе противополагаются неписанному праву, которое установлено не государством, а самой природой. Это те нормы, которые всюду одинаковы и не зависят от воли законодателей. Иные не верят в неизменное право, которое можно было бы допустить, если бы оно действовало так же неизменно, как огонь: ведь не иначе же горит огонь в Персии, чем в Греции*(221) . Аристотель не разделяет такого взгляда, но сущность его возражений остается совсем невыясненной.
Несомненно во всяком случае, что Аристотель верит в существование права, не установленного тем или другим государством, а общепризнанного, хотя нигде не записанного*(222) . У Аристотеля не раз встречаем ссылку на законы природы. К таким неизменным законам природы относит философ: разделение людей на рожденных повелевать и рожденных повиноваться, господство мужа над женой, рабство, войну между эллинами и варварами.
Это естественное право представляет собою нечто совершенно отличное от государственных законов. Оно вступает в силу, когда молчит право, установленное государством. Тогда оно подсказывает суду решение. Пробелы в законодательстве случаются или против воли законодателей или по их воле. Законодатели могут забыть, упустить из виду то или другое, но могут и признать себя бессильными в развитии всех деталей, применительно к каждому отдельному случаю*(223) . И вот естественное право "побуждает извинить человеческие слабости, взирать не на закон, а на законодателя, сообразоваться не с буквою, а с духом постановлений, не с проступком, а с намерением, принимать в соображение всю обстановку, взвесить не то, что такое теперь преступник, но чем был всегда этот человек"*(224) .
Аристотель одобряет те законодательства, которые по возможности подробно нормируют отношения людей: чем менее простора усмотрению судей, тем лучше. В подтверждение этого положения приводятся следующие соображения. законы являются следствием долгого и всестороннего обсуждения, тогда как судебные решения постановляются сразу. Легче найти одного или несколько просвещенных судей. Законы определяют отношения с точки зрения общей и в виду будущего, судебные же решения постановляются с точки зрения конкретного случая и применительно к настоящему случаю*(225) . Можно думать, что желание видеть общественную жизнь строго нормированной законодателем побудило Аристотеля выставить положение: все, что законом не определено, - запрещено*(226) .
В связи с вопросом о сфере судейского усмотрения, нельзя не остановиться на понимании Аристотелем судейской деятельности. Если справедливость есть середина между двумя крайностями, то судья - это живая олицетворенная справедливость. К судье обращаются, чтобы найти точку примирения, среднюю между тяжущимися. Нередко поэтому судьи и носят название посредников, так как их назначение искать законную середину между притязаниями сторон*(227) . Такое представление о судье, как олицетворенной справедливости, не помешало Аристотелю, как мы видели, отнестись к судьям с некоторым недоверием.
IX. У Аристотеля встречаем первое указание на различие права гражданского и публичного. Это различие построено на содержании охраняемого субъекта. Право может быть рассматриваемо с двух точек зрения и подлежать соответственно двум определениям*(228) . Право, предписывая что - либо делать или чего-либо не делать, имеет в виду того, кто терпит от правонарушения: это будет или целое или же отдельный член целого. Так, оскорбление или прелюбодеяние относятся к гражданскому праву, тогда как уклонение от военной повинности составляет нарушение публичного права. Если распределение норм во время Аристотеля не соответствует нашему современному распределению, то принцип остается все тот же. То же в сущности, начало различия публичного и гражданского права лежит в основе противоположения распределительной и уравнительной справедливости.
X. При изучении общего строя и особенностей различных государств первый вопрос, встающий перед исследователем: что такое государство?*(229) .
Очевидно, что это одна из форм общения и притом высшая. Можно было ожидать, что Аристотель займется определением этой формы общения в отличие от других; но Аристотель, признавая сложность понятия о государстве, обращается к определению понятия о гражданине, как элементе государства. Вследствие такого оборота Аристотель попадает в circulus vitiosus, потому что понятие о гражданине предполагает понятие о государстве.
Но Аристотель думает избегнуть трудности, давая своеобразный взгляд на то, что такое гражданин. Отличительный признак понятия о гражданине - это право выполнять функции судебные и административные*(230) . Трудность еще более возрастает. Если граждане только те, кто призван к административным и судебным функциям, то что же представляет собой остальная часть населения, что представляет собой все население в монархии, где функции сливаются в лице одного государя? Эти вопросы не избегли внимания Аристотеля. В благоустроенном государстве представители труда не пользуются правами гражданства. Это потому, что граждане должны быть свободны от всяких забот, кроме государственных: кто должен зарабатывать кусок хлеба, тому некогда думать о благе государства. Поэтому наравне с иностранцами, с детьми, трудящиеся живут в государстве, не будучи гражданами*(231) . На второй вопрос Аристотель дает такой ответ: данное им понятие о гражданине применимо только к демократии*(232) . Но тогда монархия, лишенная граждан, не есть государство, так как государство определяется образующими его элементами, т. е. гражданами. Еще более странно, когда Аристотель различает государства смотря по тому, все ли граждане принимают участие в государственном управлении или не все*(233) .
Таким образом, попытка определить понятие о государстве понятием о гражданине не удалась Аристотелю.
Причина государственного общения лежит в природе человека*(234) . Это существо по природе общительное. Под этим выражением Аристотель понимает, что человек инстинктивно желает государственного общения, хотя бы он и не сознавал всего значения взаимной помощи. В государство людей загоняет самый инстинкт жизни*(235) .
Как высшая форма человеческого общежития, государство является продуктом исторического развития. Исходным пунктом этого развития служит семья, которая ни в каком случае не может быть признана государством, потому что различие здесь не только количественное, но и качественное*(236) . Союз семей составляет общину, а союз общин образует государство. Таким образом каждая низшая форма содержит in potentia высшую. Процесс развития форм общения твердо установлен Аристотелем и в соответствии с его основным философским воззрением. Дальнейшей формой, которая поглощает отдельные государства - города, была бы нация*(237) , но Аристотель отказывается видеть государственную форму за пределами тех небольших политических союзов, какими являлись государства греков.
XI. У Аристотеля мы не встречаем вполне ясного представления о государственной власти. Философ признает с одной стороны, что государственная власть и государственное устройство одно и то же*(238) ; с другой выдает деление функций власти за деление органов власти законодательных и судебных*(239) .
Рассматривая различные виды государственного устройства, Аристотель выставляет классификацию форм правления, получившую от него такую известность, хотя основания ее были известны греческой философии и ранее. Аристотель принимает несколько признаков классификации. Формы правления разделяются прежде всего на правильные и неправильные, смотря по тому, имеют ли в виду правящие общее благо или личный их интерес*(240) . По этому основания монархия противополагается тирании, аристократия - олигархии. Другой признак выражается в числе лиц, составляющих правительство - один, меньшинство или большинство. По этому началу различаются монархия, аристократия, политейя, как правильные, тирания, олигархия, демократия как неправильные формы правления, как извращение первых*(241) . Сам Аристотель решающее значение придает характеру правления, а не числу лиц, распоряжающихся властью. Тем более, что Аристотель, сверх цели управления и организации власти, присоединяет еще признак социально-экономический. Различие между демократией и олигархией Аристотель готов видеть не столько в характере управления, которое и тут и там одно и то же, не в числе правящих лиц, а в богатстве и бедности. Демократия там, где правящее большинство бедно, хотя и свободно, олигархия там, где правящее меньшинство богато*(242) . Если бы государство состояло из 1.300 человек, из которых 1000 было бы богатых, то сосредоточение власти в руках этого большинства не сделало бы правление демократическим.
Впрочем, Аристотель отрицает резкие грани между указанными им формами правления, во всяком случае, различие между ними гораздо меньше, чем это кажется с первого взгляда*(243) .
Это не мешает Аристотелю давать характеристики различных государственных порядков, причем более всего удалось ему обрисовать демократию и олигархию. Демократию он готов сблизить с тиранией. Когда власть переходит к народу и воля его становится выше велений закона, начинается господство худшей тирании. Появляются льстецы, демагоги, которые умеют найти слабые струны толпы и приобретают такое доверие, что успевают вырывать распоряжения, отменяющие тот или иной закон. Олигархия характеризуется тем, что сосредоточенная в руках немногих государственная власть способствует все большему сосредоточению богатств в руках правящего класса, который постепенно превращается в сословие, наследственно пользующееся исключительным правом управления*(244) .
Аристотель уделяет целую книгу вопросу о причинах революций, потрясающих каждую из форм государственного устройства. Эти причины, вызывающие революционное движение, всегда бывают очень глубоки, обусловливаются основательными мотивами, хотя бы повод и казался пустяшным*(245) . И здесь главным образом причина оказывается экономического свойства: это нарушение принципа золотой середины, резкое противоположение богатых и бедных*(246) .
XII. Семья составляет не только исходный пункт развития общественных форм до государства, но и ячейку государства, потому что государство состоит из семей*(247) .
Семья - это государство в миниатюре. Глава семьи является тем именно пастырем, о котором говорит Гомер, называющий так Агамемнона. В семье нельзя не усмотреть зачатков всех форм правления: отношение главы дома к детям и рабам - элемент монархический, отношение мужа к жене - элемент аристократический, отношение детей между собой - элемент демократический*(248) .
Аристократический характер отношения мужа к жене основывается на том, что мужчина существо более совершенное, чем женщина*(249) , а все более совершенное призвано повелевать над всем менее совершенным - таков закон природы*(250) . Поэтому женщина обязана повиноваться своему мужу. Назначение женщины, вопреки мнению Платона, совсем иное, чем мужчины: дело мужчины приобретать для дома, дело женщины сохранять в доме*(251) .
Отцовская власть основывается на рождении и любви. Она имеет чисто царский характер. Перед отцом у детей нет воли. Отец гражданин in actu, имеет любовное попечение о детях, как гражданах in potentia. Поэтому власть отца монархична, но не тиранична, как напр., в Персии, где дети на положении рабов, где имеется в виду не благо детей, а интерес отца, как хозяина*(252) . Впрочем, Аристотель право отца на детей называет правом собственности, отношение отца к детям считает делом домашним; в отношении детей отец не может быть несправедлив, как не может он быть несправедлив в отношении к самому себе*(253) .
Наконец, отношение главы дома к рабам построено на личном интересе хозяина, и поэтому имеет характер тиранический. Аристотель подробно останавливается на рабстве, ввиду, очевидно, все более возбуждаемых сомнений в справедливости этого института*(254) . Она дает полное оправдание рабству, и его аргументы долго служили авторитетным оружием, особенно в те времена, когда доказательство взвешивается не по силе его убедительности, а по силе его авторитетности.
Великий греческий мыслитель выдвигает главным образом два соображения в пользу рабства: его необходимость и его естественность. Рабство необходимо, потому что граждане должны иметь доступ для занятия общественными делами, философией, искусствами. Связанный материальными заботами не имеет свободного духа. А пока необходимые человеку вещи не будут изготовляться сами, без участия человеческих рук - "пока прядильный челнок не побежит сам" - нельзя обойтись без помощи рабов. Рабство естественно, потому что сама природа предназначила одних людей повелевать, других повиноваться. Люди с рабской душой и не могут быть ничем иным, как только рабами. Сама природа, утверждает Аристотель, наделила рабов иной организацией, чем свободных: у первых нескладная сила, у вторых - прямой стан и гибкость. Здесь философ подходит к вопросу, не нарушается ли это естественное соотношение военным успехом, не делается ли благодаря войне свободный по природе рабом по установлению? Вопрос этот, видимо, ставился современниками Аристотеля и, следует признать, последний не нашел на него утвердительного ответа.
XIII. Вопросам уголовного права Аристотель уделяет мало внимания, и это дало повод некоторым видеть здесь доказательство неполноты дошедшей до нас "Политики", так как невероятно, чтобы такой мыслитель не остановился подробнее на преступлении и наказании.
Аристотель отвергает верность учения пифагорейцев, отстаивавших идею возмездия. Во многих случаях оно явно непримиримо. Напр., должностное лицо наносит кому-либо удар - нельзя же допустить, чтобы и его били; или, наоборот, кто-нибудь побьет занимающего государственную должность - разве можно ограничиться только ударом? Притом необходимо принимать в соображение различие непроизвольных и сознательных преступлений*(255) .
В основание наказания Аристотель кладет начало целесообразности. Наказание имеет устрашительное значение, потому что люди, не повинующиеся голосу совести, подчиняются угрозе; оно имеет исправительное значение, потому что высшая цель государства - это добродетель и высшая его задача направлять на этот путь сбившихся. Наконец, в отношении безнадежных людей, вредных для общества, цель состоит в обезвреживании*(256) .
Применение наказания предполагает свободную волю, без которой нет преступления*(257) . Там, где действие обусловливается случаем, не может быть речи о наказании*(258) . Человек наказуем, однако, за намеренное приведение себя в состояние невменяемости, напр. за опьянение, но не за проступок, совершенный в опьянении*(259) .
XIV Позитивность Аристотеля не помешала ему, как и Платону, начертать картину идеального государства. Только картина эта представляется неполной, потому ли, что философ не успел докончить "Политики", потому ли, что это произведение не дошло до нас полностью, потому ли, что у философа вовсе не сложился цельный идеал. Только немногие склонны думать, что очерк, даваемый Аристотелем в двух главах, охватывает вполне идеал государства. Неправильность последнего мнения обнаруживается из слов самого Аристотеля, который не раз обещает сказать то, чего мы не находим у него. Вернее всего, что эта часть "Политики" осталась незаконченной.
Когда имеешь в виду начертить план совершенного государства, необходимо определить, прежде всего, цель государства. Цель государства - доставить счастие граждан. Счастие состоит в добродетели. То государство будет идеальным, в котором каждый гражданин, каков бы он ни был, может, благодаря законам, проявлять добродетель и обеспечивать себе счастливое существование*(260) . Совершенным правительством будет то, которое дает обществу наиболее полное счастье*(261) . Аристотель положительно отрицает, чтобы целью государства могла быть война, как это полагали некоторые из его современников, и чтобы государственное устройство должно было приноравливаться к этой единственной цели, как это было в Спарте. Военная организация есть только средство, обеспечивающее иные, высшие цели государственного существования*(262) .
Обращаясь к вопросу, при каких условиях достижим поставленный идеал, Аристотель встречается, прежде всего, с распространенным в его время мнением, что государства должны быть большие. Этого взгляда философ не разделяет. Возможно ли, правильно организовать большое общежитие? Возможно ли, говорить с такой массой граждан? Возможно ли, командовать таким огромным количеством людей? В нецелесообразности больших государств Аристотеля убеждает как наблюдение, так и разум. Однако государство не должно быть слишком малым, потому что оно не будет в состоянии удовлетворить своим потребностям. Необходимо держаться середины между крайностями: государство не должно быть меньше того размера, при котором обеспечиваются его потребности, оно не должно быть больше того размера, за пределами которого утрачивается возможность правительственного надзора*(263) . Это не мешает, впрочем, Аристотелю признавать значение крупного государства: если бы греки образовали одно государство, они победили бы весь мир*(264) .
Вопреки Платону, Аристотель желал бы, чтобы государство было расположено у моря. Он сознает тот нравственный вред, который происходит от постоянного соприкосновения с иностранцами, воспитанными в духе совершенных иных законов*(265) . Но экономические и стратегические соображения заставляют его пренебречь этой опасностью*(266) .
Состав населения должен соответствовать целям государства. Народы, живущие в холодном климате, даже в Европе, вообще полны отваги, но они не высоко стоят в умственном и промышленном отношении. Конечно, они свободны, но не способны к политическому сплочению и потому никогда не могли одержать верх над врагами. В Азии, наоборот, народы более одарены разумом и вкусом, но зато лишены мужества, а потому находятся всегда под игом рабства. Только греки, находясь по местоположению в середине между варварами и азиатами, соединяют в себе те и другие качества: они мужественны и развиты*(267) . Поэтому только греки составляют материал, подходящий для образования населения в идеальном государстве.
Относительно наилучшей формы правления взгляды Аристотеля отличаются такой неопределенностью, что одни видят в нем монархиста, другие - демократа, третьи обнаруживают в нем несомненные аристократические тенденции. Правы первые, когда приводят мнение Аристотеля, что лучшая власть - это царская*(268) . Когда Аристотель говорит, что в аристократическом правлении все граждане - люди вполне нравственные, что только здесь хороший человек и хороший гражданин одно и то же*(269) , можно думать что его симпатии склоняются на сторону аристократии. Когда Аристотель в определении государства берет исходным пунктом понятие о гражданине и утверждает, что только в демократии имеются граждане в настоящем значении слова*(270) , - можно думать, что единственным правлением, обеспечивающим общее счастье, является, с точки зрения Аристотеля, демократия.
По-видимому, в настоящем вопросе Аристотель стоит на иной точке зрения. Лучшая форма правления не может быть указана вообще, для всякого времени и места: наилучшее государственное устройство то, которое соответствует условиям времени и места. Но такая относительность и историчность политического идеала не вполне согласуется с указанной выше абсолютностью его.
Со стороны социальной Аристотель, следуя началу золотой середины, желал бы, чтобы преобладающее значение имел средний класс. Только при этом условии государство будет спокойной внутри. Политическое преобладание богатых вызывает постоянное недовольство в массах, преобладание бедных ведет к несправедливому управлению. Средний класс имеет сдерживающее значение. Из среднего класса вышли лучшие законодатели, к которым Аристотель причисляет Солона, Ликурга (!) и других*(271) .
Поземельное устройство Аристотель предполагает не на коллективных началах, как Платон, а на индивидуалистических. Государственная территория делится на две части: одна составляет государственное достояние, другая - частное. Из государственных земель должны удовлетворяться потребности религиозного культа и общественных обедов, за которые Аристотель сильно стоит. Частная же поземельная собственность должна состоять из двух участков: внутреннего и пограничного. Это делается для того, чтобы заинтересовать каждого в отражении неприятельских нападений*(272) .
XVII. Как ячейка государства и источник пополнения населения - семья не может не обратить на себя внимания политика. Аристотель смотрит на брак всецело с точки зрения потомства.
В интересах последнего, брак должен подвергаться государственной регуляции со стороны возраста вступающих в брак. Брак не может быть допущен для лиц мужского пола ранее 37 лет, женского - 18 лет. До достижения этого предела брак недопустим, во-первых, потому, что ранние браки, как это наблюдается на животных и на людях там, где разрешаются ранние браки, дают слабое потомство, во-вторых, потому, что слишком молодые женщины не выдерживают родов, в-третьих, потому, что между родителями и детьми должен бить довольно значительный промежуток лет, обеспечивающий уважение молодежи к возрасту и солидности родителей.
Брак не должен быть разрешен и в позднем возрасте, потому, во-первых, что дети, производимые в преклонных годах, обнаруживают большей частью физическую и духовную дряблость, а во-вторых, потому, что между родителями и детьми не должно быть слишком большой разницы в годах. За пределами 50-летнего возраста необходимо отказаться от производства детей*(273) .
Регуляция потомства происходит еще и с другой стороны: не стоит воспитывать детей, которые по своему физическому сложению не обеспечивают здорового населения. Законом следует запретить вскармливать уродливых детей. Число детей должно быть удерживаемо в пределах определенного населения посредством вытравления плода, если уже нравы противятся простому оставлению на произвол судьбы*(274) .
XVIII. Вопрос о воспитании, как и следовало ожидать, привлек к себе внимание Аристотеля, не менее чем Платона. Человек делается добродетельным под влиянием трех факторов: природы, привычки и разума*(275) . Действие первого фактора определяется выбором населения из греков, единственно одаренных от природы качествами, наиболее пригодными для государственного быта. Действие двух других факторов обусловливается воспитанием и образованием. Отсюда обнаруживается вся важность для законодателя вопроса о подготовке молодого поколения*(276) .
Первый вопрос, который возникает здесь, это вопрос о том, должно ли воспитание быть общественным или домашним? Все симпатии Аристотеля на стороне первого: "Так как государство, как целое, имеет в виду одну лишь цель, то воспитание должно быть непременно одинаковым для всех: а отсюда следует, что воспитание должно быть общественным делом, а не частным, хотя последняя система повсюду восторжествовала и ныне каждый учит своих детей, чему и как ему вздумается"*(277) . Для Аристотеля "совершенно очевидно, что воспитание должно быть государственным и направляемо по закону"*(278) .
Что же касается круга знаний, подлежащих изучению, то Аристотель признает его спорность и сомнительность, "Одно только бесспорно: это то, что образование должно охватывать лишь те полезные знания, которые, безусловно, необходимы. Так как все занятия разделяются на свободные и рабские, то юношество будет изучать полезное лишь настолько, чтобы не сделаться ремесленником. Ремеслом называются все те занятия искусством, знания, которые совершенно бесполезны для подготовления тела, души и ума свободного человека к осуществлению добродетели*(279) . Сам Аристотель говорит только о физическом воспитании и о музыке.
Воспитание должно быть разделено на два периода. До 7 лет дети остаются дома у родителей, от 7 до совершеннолетия - первый воспитательный период, когда воспитание должно быть направлено на тело и на образование привычек, и второй - период совершеннолетия, до 21 года, когда воспитание имеет своей целью образовать разум человека*(280) .
Соответственно полученному воспитанию и цели государства, граждане в идеальном государстве Аристотеля освобождены и отстранены от трудовой деятельности. Граждане, которые должны иметь в виду только добродетель, не будут касаться ремесел, торговли, низшего труда, отвращающего от добродетели. Не по ним и земледельческий труд. Чтобы быть добродетельным, необходимо свободное время: занятие граждан - дела военные, государственные, судебные*(281) . Весь труд по обеспечению материальными благами должен быть возложен всецело на рабов*(282) .
Аристотель (384-322 гг. до н. э.) впервые разрабатывает этику как систематическую науку. Он дает ей определение, производя его от слова, первоначально обозначавшее совместное жилище, обычай, черты характера человека, порожденные условиями совместного общежития. «Свое название, если нужно исследовать истину исходя из буквы (а это, пожалуй, нужно), этическая добродетель получила вот откуда: слово ethos, нрав, происходит от слова ethos, обычай, так что этическая добродетель называется так по созвучию со словом привычка. Уже отсюда ясно, что ни одна добродетель внеразумной части души не возникает в нас от природы: что существует от природы, то уже не изменится под влиянием привычки»*.
* Аристотель. Сочинения: В 4 т.- Т. 4.- М, 1984.- С. 306.
Аристотель делает существенный для всей античности поворот при рассмотрении нравственных проблем в результате того, что обращает внимание на позитивную роль эмоций. Он подвергает критике учение Сократа и Платона за предельный рационализм. Аристотель говорит, что, связав мораль с разумом, они не учитывают страстей. Но необходимо не просто знать добродетель, а действовать в соответствии с ней. Действие же как раз происходит из того, что разум соединяется с эмоцией. Невозможно быть добродетельным и не радоваться добродетельному действию.
Введение в теорию страстей, рассматриваемых в положительном плане, позволило сделать существенные шаги на пути развития теории. Прежде всего мораль, добродетельное поведение, предстает в учении Аристотеля в связи с представлением о вариативности поведения человека, с допущением мысли об определенной свободе действия, которой человек обладает в пределах своего нравственного бытия. По существу, это означает движение к более глубокому пониманию субъективности. Ведь если предположить, что человек действует исключительно на основе разума и что все познано, не осталось бы никакого сомнения о том, как нужно действовать. Аристотель, видимо, хорошо понимает это, говоря о том, что знание добродетели вообще не дает знания в каждом конкретном случае.
Добродетели, согласно Аристотелю, воспитывается. Но человек, совершенно не предрасположенный к восприятию этического знания, окажется глух учению. Этот вывод опять же связан с введением теорию представления о необходимости эмоционального настроя для совершения нравственного действия. Если человек не настроен эмоционально на добро, нравственное просвещение окажется для него без пользы.
Добродетельное поведение представляется действием, совершаемым под влиянием эмоций, направляемых разумом. Для аргументации данного положения Аристотель рассматривает взаимодействие различных частей души, во многом используя платоновское понимание ее составляющих. Он разделяет душу на разумную и неразумную. Последняя делится на растительную и стремящуюся. Растительная душа способна заботится о воспроизведении потомства, она способна чувствовать недостаток в пище, но в ней нет никаких чувственных стремлений, никаких аффектов. Поэтому она не имеет отношения к добродетели. Стремящаяся душа содержит аффекты и, соответственно, имеет отношение к добродетели. Но аффекты способны породить добродетельный образ жизни только в том случае, если они управляются разумом. Взаимодействие разумной и неразумной души обеспечивается ее слушающей частью. Благодаря слушающей части неразумная душа воспринимает то знание, которое заключено в разумной, прежде всего в ее собственно разумной части, содержащей интеллектуальные добродетели. Рассудочная часть души также имеет некоторое отношение к добродетели, так как для практического воплощения добродетели нужно действовать с умом, то есть ориентироваться не только на общее понятие о добродетели, но и на конкретные цели, которые человек стремиться достичь, будучи добродетельным существом, действуя во имя своего блага и блага полиса.
Это может быть выражено следующей схемой:
Душа, согласно Аристотелю, присуща всему живому и для всего живого она выполняет одну и ту же функцию: обеспечивает стремление к совершенству. В соответствии с его представлениями, каждая индивидуальная жизнь стремится к совершенству, к образцу, заданному со стороны формы. Под формой Аристотель во многом понимает то же, что и Платон, т. е. некоторый идеальный образец совершенства. Но в отличие от Платона он подходит к вопросу о соотношении отдельной единичной вещи и ее формы более дифференцированно. Если для Платона есть общие идеи любви вообще, блага вообще, то Аристотель в понимании формы останавливается на таком уровне обобщения, который соответствует видовым отличиям. «Последнее видовое отличие... будет сущность вещи и [ее] определение»*. Ни всеобщее, ни род, с точки зрения Аристотеля, сущностью и определением вещи не являются. Однако сущность нельзя понимать и как единичное. Последнее задается также со стороны материи, которая, соединясь с формой, и дает то, что представляет из себя каждая конкретная вещь. Для человека последнее видовое отличие, по-видимому, связано с профессией. Поэтому так же, как желудь, в силу наличия у него растительной души, хочет стать хорошим дубом, человек, обладающий уже и разумной душой, сознательно стремится к тому, чтобы стать хорошим портным, кормчим, философом и т. д.
* Аристотель. Метафизика.- М.; Л., 1934.- С. 132.
Аристотель, как известно, изучал разные виды животных, он считается основателем биологии (прежде всего зоологии). Его наблюдения относительно жизни растений и животных для своего времени были достаточно глубоки. Так, Аристотель говорил о том, что растительная душа заботится только о воспроизведении потомства, животная же душа имеет ощущения, у нее появляется возможность ощущать форму воспринимаемого без ее материи. Человеческая душа, в дополнение к этому имеет также разум, способный критически оценивать сами ощущения. Но из всех этих суждений остается до конца неясным, почему же в одном случае для стремления к совершенной форме сказывается достаточно растительной души, простого воспроизведения потомства, а в другом случае требуются ощущения, да еще и разум. Говоря об этических добродетелях, Аристотель приближается к выводу о том, что неопределенность бытия человека по сравнению с растениями и животными по какой-то причине возрастает. В силу этого у него и появляется свобода выбора, воля и связанные с этим добродетели, которые по сути дела являются средством, позволяющим человеку держаться в границах его собственной меры бытия при неопределенности ряда параметров последнего. Но эти выводы сформулированы Аристотелем лишь в неявном виде.
Этические добродетели формируются, согласно Аристотелю, на базе аффектов под влиянием слушающей части души. Принципом их определения является нахождение меры между двумя пороками. Например, мужество - определенная мера между страхом (трусостью) и безумной отвагой. Но мера это не просто середина, а определенное для каждой конкретной добродетели отношение. Например, мужество ближе к безумной отваге, чем к страху. Благоразумие (умеренность) - мера между бесстрастием и распущенностью, но ближе к бесстрастию. Щедрость - мера между скупостью и мотовством, но ближе к мотовству.
Такой принцип определения относится, однако, только к этическим добродетелям. Для высших - интеллектуальных добродетелей он не подходит, так как высшая, разумная деятельность, согласно Аристотелю, должна быть самодостаточной. В ней нет места соединению чувственного и разумного. Интеллектуальная добродетель - это мудрость, а также рассудительность (мудрость в применении к практическим делам) и сообразительность. Идеалом мудрой разумной деятельности как высшего блага у Аристотеля оказывается созерцание, выступающее как высшее благо, так как это деятельность, содержащая цель в самой себе.
В античной концепции мира порядок бытия в целом задается сверху, со стороны всепроникающего и организующего мировой порядок разума «Нуса». Идея «Нуса» появляется впервые у Анаксагора. Картина мира как статического совершенства, лишь иногда нарушаемого отклонениями, характерна и для Платона, и для Аристотеля. У Платона это проявляется в самой идее несовершенства мира земного бытия, выступающего как мир теней. У Аристотеля каждая вещь стремится к своей форме как совершенному божественному образцу. Само подобное стремление, развитие, имеющее место на Земле, также свидетельствует о несовершенстве земного бытия. Такое понимание в целом неизбежно приводит к выводу о свободе как свободе созерцания совершенного порядка бытия, доступной на высшем уровне развития познавательных способностей человека, тогда, когда ему как бы предоставляется возможность заглянуть в мир богов. У Платона это, как мы уже видели, происходит тогда, когда человек преодолевая несовершенные формы земного бытия поднимается до видения идей красоты блага и справедливости самих по себе. У Аристотеля проявляется в интеллектуальных (дианоэтических) добродетелях, высшая из которых - мудрость, показывает, в частности, и то, что высшее благо есть созерцание.
Но мудрость имеет отношение и к практическим делам. Она в виде рассудительности присутствует во всех этических добродетелях, ведь они, как уже отмечалось, как раз и возникают благодаря взаимодействию аффективной и разумной частей души.
Аристотель сделал огромный шаг в развитии этической мысли, положительно оценив роль аффектов в моральном действии. Но он был против страстей. Страсть или сильное эмоциональное напряжение может, с его точки зрения, только увести человека от правильного действия, так как, поддаваясь страстям, мы теряем контроль разума. «Мы,- говорит Аристотель,- должны следить за тем, к чему мы сами восприимчивы, ибо от природы все склонны к разному, а узнать к чему - можно по возникающему в нас удовольствию и страданию, и надо увлечь самих себя в противоположную сторону, потому что, далеко уводя себя от проступка, мы придем к середине, что и делают, например, исправляя кривизну деревьев. Больше всего надо о всем остерегаться удовольствия и того, что его доставляет, потому что об этих вещах мы судим крайне пристрастно»*.
* Аристотель. Сочинения: В 4 т.- Т. 4.- М., 1984.- С. 93.
Следовательно, в этической концепции Аристотельпозитивную роль играют только умеренные эмоции. Но мы знаем, что в действительности многими своими достижениями человечество обязано именно страстям без них не может быть творческого горения, мучительного поиска истины, не может быть никакого самопожертвования.
Аристотель в целом исходит в своей этической концепции из эвдемонистического тезиса. Он считает, что стремление к счастью это самое простое и понятное желание человека. Но путь к счастью показывает этика. «...Человеческое благо представляет собою деятельность души сообразно добродетели, а если добродетелей несколько - то сообразно наилучшей и наиболее полной [и совершенной]»*. Счастье и есть жизнь в соответствии с добродетелью.
* Аристотель. Указ. соч.- С. 64.
На низших уровнях бытия счастье дает сознание совершенства. Здесь человек реализует свое социальное назначение. Быть совершенным сапожником или корабелом, то есть максимально воплотить в своем индивидуальном бытии свою идею, свою форму и означает быть счастливым. Этот уровень бытия в основном регулируется этическими добродетелями. Но человек также обладает разумом. Его высшее назначение, согласно доминирующей в античной этике традиции, должно быть связано с самим разумом, не рассматриваемым просто в качестве аппарата для производства каких-то вещей. Но такой разум по логике вещей не может быть ничем иным, кроме созерцающего разума. Этим выводом, собственно, и заканчивается этическое учение Аристотеля.
Выводы
¨ Античная этика классического периода начинается с идеи о том, что в индивидуальном бытии должны быть выражены всеобщие начала. Поэтому необходимо подчинить его всеобщему космическому закону «логосу» (Гераклит). Необходимо также выполнять законы государства, так как они тоже выражают всеобщие начала бытия.
¨ Затем, в этике софистов мораль релятивизируется. Человек освобождается от бремени космического закона и принимает ответственность на себя. Мораль понимается здесь как совокупность требований, которые формирует сам человек для упорядочивания общественной жизни и защиты своих прав. Добродетели представляются воспитуемыми, а средством воспитания выступает наказание. Личность понимается как индивидуальный субъект, вынужденный выполнять определенные правила поведения в силу совместного общежития, хотя основным мотивом поведения является стремление к реализации собственного интереса, в том числе - стремление к наслаждению. Метод софистов - ведение спора, в котором полагается возможным с равной убедительностью доказывать противоположные тезисы - направлен на демонстрацию практических последствий принятия того или иного теоретического положения. Это, в конечном счете, может способствовать принятию решения относительно того, можно ли использовать данное положение как некоторый жизненный принципа.
¨ Поиск индивидуальных критериев нравственности, которые могут быть заключены в самом индивиде, продолжается в этике Демокрита, а также в учениях некоторых философов, считавших учениками Сократа (Антисфен, Диоген, Аристипп). На этом пути прорабатываются различные логические возможности воплощения некоторой теоретической идеи в организации индивидуальной жизни. Так, Демокрит говорит, что надо стремиться к спокойствию духа и умеренным наслаждениям. Его основной нравственный императив: избегай чрезмерных страстей и действий сверх своих сил. Киники (Антисфен, Диоген) считали, что нужно по возможности отказаться от всяких удовольствий, так как все они ведут к последующему страданию, по крайней мере - к беспокойству, которое тоже страдание. Киренаики (Аристипп), наоборот, полагали, что нужно стремиться к сильным чувственным удовольствиям в настоящем, так как именно в них и заключено счастье.
¨ Личностные критерии, сведение морали исключительно к вопросу о том, что нужно для того, чтобы прожить более счастливо, представляются, однако, слишком неопределенными в силу того, что сами удовольствия, с которыми так или иначе связывается счастье, не являются для человека чем-то совершенно очевидным. То, что кажется нам ценным и желательным, в определенной степени задается со стороны нормативных критериев общества. Кроме того, человек имеет общественные обязанности, исполнение которых совсем не всегда связано с удовольствиями. Поэтому индивидуальные, психологические подходы к пониманию морали являются недостаточными. Попытка их преодоления начинается в этике Сократ и Платона, которые задаются вопросом об общем интерсубъективном смысле моральных требований. И Сократ и Платон считают, что для счастья достаточно одной добродетели. Этот тезис содержат призыв противостояния себя несовершенному миру, уходу от него. Оба мыслителя полагают, что в индивидуальном бытии должны быть максимально выражены общие начала. Платон рекомендует воздерживаться от чувственных удовольствий, для того чтобы душа не привыкала к телу. Тогда легче происходит ее высвобождение. Чувственные удовольствия, с его точки зрения, могут свидетельствовать лишь о восстановлении нарушенной ранее гармонии, так что тот, кто стремится к ним сознательно, фактически намеренно стремится к разрушению (как предварительному условию приобретения чувственных удовольствий). Средство познания, согласно Платону,- самососредоточение, которое одновременно является нравственным очищением. Сосредотачиваясь, отвлекаясь от всего земного, душа припоминает то, что она видела в мире идей. Идеальное государство Платона отражает идею необходимости закрепления за каждым определенных социальных функций в соответствии с врожденными способностями души.
¨ Вершиной античной этики классического периода является этика добродетелей Аристотеля. Аристотель полагает, что счастье есть жизнь в соответствии с добродетелью. Добродетель деятельна, добродетельный человек, участвуя в общественных делах, стремится совершенно выполнять свою функцию и чувствует себя счастливым. Это возможно потому, что он свободно развивается в сторону совершенства, стремится к своей форме. Такое развитие, однако, требует определенных усилий, оно должно находиться в границах, которые как раз задаются этическими добродетелями. Последние определяются как мера между двумя пороками. Человек, согласно Аристотелю, должен контролировать свою чувственность, стремиться избегать сильных страстей, так как они легче всего уводят от необходимой меры и приближают к пороку, то есть к крайности. Однако без определенного рода эмоций также нельзя быть нравственным. Действенность добродетели определяется именно аффектом, поставленным под контроль разума.
¨ Высшие, интеллектуальные добродетели (мудрость, рассудительность, сообразительность) уже не понимаются Аристотелем как мера между двумя пороками. Принцип совершенства относится в них не к выполнению социальной функции, а к характеристики самого человеческого разума. Высшим критерием такого совершенства становится одновременное видение всех форм, созерцание, в котором человек уподобляется богам и которое есть высшее благо. Созерцание, по Аристотелю, это деятельность, содержащая цель в самой себе. Это активное состояние на которое ориентируют интеллектуальные добродетели. Последние не изолированы от этических добродетелей, так как рассудительность, представляющая мудрость, обращенную к практическим делам, присутствует во всех других добродетелях.
¨ Этику Платона и Аристотеля называют также этикой гражданского служения, поскольку эти философы в отличие от психологического направления в понимании морали не мыслят бытия человека вне такой связи с целым, в которой забота о последнем, об общем благе, становится одним из важных нравственных мотивов поведения личности.
¨ Стремление отделить разумное начало человека от чувственного, рассмотреть его в качестве самостоятельного и самого важного, а потому нуждающегося в том, чтобы его поддержать, освободить от всего мешающего, было доминирующей традицией античной этики. На этом пути нравственное самосознание человека сделало большой шаг вперед с точки зрения рассмотрения вопроса о том, как разум должен контролировать чувства, какие цели жизни человек может и должен поставить перед собой с помощью разума. Но эти же достижения оборачиваются слабыми сторонами всей античной этики.
¨ Прежде всего это происходит из-за непонимания смысла человеческого субъективного бытия, непонимания того, что человек, обладающий универсальным (божественным) разумом, достижения чего так часто жаждали философы, уже не был бы человеком. Более того, он вообще не был бы субъектом, так как смысл субъективного бытия в том, что субъект ориентируется в некоторой неопределенной до конца ситуации. Он не знает, какими сторонами реальность повернется к нему в следующий момент времени и готовится к этой неопределенности. Наши эмоции и являются одним из средств такой подготовки, они мобилизуют все системы организма, подготавливая его к возможному в следующий момент действию, например, к тому, что придется бежать, сражаться, любить и т. д. Античные философы не смогли понять этого. Они относили ощущения и эмоциональные проявления человеческой жизни к низшей части души человека и нигде не сказали о том, что ощущения могут быть рассмотрены в качестве связи сознания и мира, что эта связь является подвижной, изменчивой в силу различных видов активности, различных видов деятельности, которую осуществляет человек. Определенное напряжение этой связи, баланс положительных и отрицательных удовольствий, способствующий в целом тому, что положительное эмоциональное напряжение не пропадает и есть то, что может быть названо психологическим основанием счастья человека.
Эстетика в древности не была самостоятельной дисциплиной, и потому часто очень важные высказывания о прекрасном запрятаны у философов в самых второстепенных и неожиданных местах. Строго говоря, у Аристотеля эстетика тоже слишком приближена к общей онтологии, чтобы мы могли выделять ее как особую дисциплину. Тем не менее общая методологическая установка Аристотеля такова, что отдельные части философской системы он обдумывает весьма тщательно и подробно, так что подобного рода дисциплины получают у него формально вполне самостоятельное значение. Это самое произошло у него и с эстетикой. Мы уже видели выше, что прекрасное излагается у него вполне независимо от общей онтологии, хотя эстетика у него и вполне онтологична. Это же самое нужно сказать и обо всех эстетических категориях. Они у него, как и у Платона, онтологичны. И тем не менее они представлены у него в таком виде, что могут рассматриваться вполне самостоятельно и могут обладать самодовлеющим значением. Причины такого положения дела мы тоже указывали выше.
§1. Прекрасное и благое
Так может рассматриваться у Аристотеля беглое, но далеко не случайное определение прекрасного, которое мы находим в "Риторике". Изъяснению прекрасного здесь посвящена целая глава (I 9). Но мы увидим, что многочисленные примеры, приводимые здесь, имеют значение совсем не в нашем эстетическом смысле.
Аристотель пишет: "Прекрасное – то, что, будучи желательно само ради себя, заслуживает еще похвалы или что, будучи благом, приятно потому, что оно благо ". Это определение чрезвычайно важно и заслуживает внимательного анализа.
Тут два определения, понимаемые, очевидно, тождественно. Возьмем второе как более ясное. В нем три момента: 1) прекрасное есть благо; 2) это благо берется как благое само по себе, оно – благо как таковое, благо как благо; 3) это благо должно быть приятно именно потому, что оно благо.
а) Следовательно, вопрос о прекрасном определяется у Аристотеля проблемой блага. Что же такое благо по Аристотелю? Благо есть деятельное осуществление разумной сферы. Смотря по тому, что из разумной сферы осуществляется, получаются разные виды блага. Так как специфической особенностью человека является у Аристотеля разум, то главный вид деятельности – это знание, чистое мышление. Эта деятельность чистого разума есть так называемая "дианоэтическая" добродетель. Прочие виды деятельности есть уже соединение чистого мышления с желанием и хотением. Это уже область "этической" добродетели. Таким образом, первый пункт учения о прекрасном расшифровывается просто: 1) существует разумная сфера (чистый разум или смешанный) и 2) существует ее осуществление. К этому необходимо добавить, что, по Аристотелю, всякая деятельность связана с удовольствием, а целью человеческих стремлений является блаженство. Следовательно, в результате осуществления разумной сферы образуется 3) та или иная степень удовольствия, переходящая в пределе в блаженство.
б) Что касается второго момента – блага как блага, – то тут интересно отметить нетеоретичность и настоящую жизненную моральность этого принципа. В то время как мы в настоящее время поняли бы этот принцип просто в качестве учения о незаинтересованности моральной сферы, когда мы наблюдаем моральные поступки как таковые и тем обеспечиваем для себя их эстетическую значимость, Аристотель выдвигает здесь оценочное суждение. Ему важна не просто мораль как мораль, но ему важна именно высшая мораль, именно хорошие поступки, высоконравственное поведение. И в то время как западный европеец умеет оценивать как эстетически-прекрасные такие поступки, которые морально могут быть и очень низкими (и для этого требуется только созерцательно-незаинтересованное к ним отношение), Аристотель способен считать прекрасным только то, что обязательно и нравственно высоко. Это видно из многочисленных примеров, которые он приводит в анализируемой нами главе (Rhet. I 9):
"Из поступков прекрасны те, которые человек совершает, имея в виду нечто желательное, но не для себя самого; прекрасны также и безотносительно-хорошие поступки, которые кто-либо совершил для пользы отечества, презрев свою собственную выгоду, точно так же, как прекрасно все то, что хорошо по своей природе и что хорошо, но не именно для данного человека, потому что такие вещи делаются ради самого себя. Прекрасно и все то, что скорее может относиться к человеку умершему, чем к живому, потому что то, что делается для человека, находящегося в живых, сопряжено с эгоистическим интересом делающего. Прекрасны также те поступки, которые совершаются ради других, потому что такие поступки менее носят на себе отпечаток эгоизма. Прекрасно и то благоденствие, которое имеет в виду других, а не самого себя, а также то, что касается наших благодетелей, потому что это согласно со справедливостью. Прекрасны такие благодеяния, потому что они относятся не к самому человеку, [их совершающему]" (1366 b 36 – 1367 а 6).
В дальнейшем Аристотель считает прекрасными те поступки, которые противоположны постыдным поступкам, которые совершаются не из страха, которые ведут к справедливой славе и почету и т.д. Из всего этого один вывод: во втором пункте основного определения прекрасного, в учении о благе как благе имеется в виду чисто оценочный принцип, то есть прекрасным может быть, по Аристотелю, только то, что высоко в моральном отношении.
Но это нисколько не мешает, а, скорее, только способствует самодовлеющей созерцательной ценности так понимаемого прекрасного. Казалось бы с первого взгляда, что здесь у Аристотеля не эстетика, а самая настоящая моралистика. Тем не менее мораль во всех приводимых примерах указывает только на онтологический корень красоты; сама же красота от этого нисколько не страдает и как раз благодаря самодовлению морали делается и сама вполне самодовлеющей. Раз благо рассматривается здесь само в себе и само для себя, то и выражающая его красота тоже берется сама в себе и сама для себя.
в) Наконец, третий момент определения гласит, что прекрасное доставляет удовольствие, но опять-таки не удовольствие вообще (оно получается при всякой жизненной деятельности), а удовольствие от блага как блага, то есть, по только что сказанному, удовольствие от моральной высоты человека. Тут мы и подходим к разгадке аристотелевского (а вместе с тем в значительной мере и общеантичного) учения о прекрасном. Прекрасно то, что доставляет бескорыстное и созерцательное удовольствие, будучи морально высоким. Мы видели, что это меньше всего стали бы трактовать в Западной Европе как эстетическую сферу. Тут сказывается в самой неприкрытой форме онтологизм античной философии и ее антисубъективизм: прекрасно (да и не только прекрасно, а просто ценно и даже просто существует) только то, что на самом деле есть, не то, что мыслится или воображается, но то, что всерьез на самом деле существует как самостоятельная реальность. Правда, необходимо помнить, что, собственно говоря, самый термин "мораль", или "нравственность", очень мало подходит к античной философии. Здесь имеется в виду не свод абстрактных правил поведения или обычаев общежития, но осуществление разумной сферы во всей ее полноте, так что сюда входят и дианоэтические добродетели, и они даже занимают первое место.
г) В вышеприведенном месте (из Rhet. I 9) имеется еще определение прекрасного как "того, что, будучи желательно само Ради себя, заслуживает еще похвалы". Это определение менее четко. Тут безусловно ясен только момент "похвального ради самого себя", или "того, что достойно выбора, стремления", haireton. В этике Аристотеля это понятие вообще играет большую роль (об истинном блаженстве Аристотель трактует в Eth. Nie. X 9, 1179 а 23-32; об единстве добра и стремления – там же, I 2, 1095 а 13-15). Так как высшая мудрость, по Аристотелю, вообще заключается в овладении разумом, то истинное "блаженство" и есть соединение разума со всеми человеческими стремлениями, или созерцание. В результате этого учения мы можем отождествить "желательное само по себе" с этим определением истинного блаженства как созерцания. Что же касается момента "заслуживает похвалы", то его остается сравнивать, очевидно, с моментом "приятности" в рассмотренной раньше части определения. "Похвала" звучит несколько более объективно. Но, пожалуй, особенно большой разницы тут нельзя видеть. Ведь "приятность", о которой говорит Аристотель в определении прекрасного, хотя и относится к сфере субъекта, но она вызывается весьма высокими и благородными общественными фактами, и только от них она и зависит. Получается такое субъективное состояние, которое из всех субъективных наиболее объективно, наиболее связано с определенным родом моральной действительности. Поэтому оба определения прекрасного в Rhet. I 9 приблизительно одинаковы.
д) Это определение прекрасного, данное в "Риторике", интересно во многих отношениях. Оно интересно теоретически тем, что здесь мы имеем античную аналогию новоевропейского учения, формулированного Кантом. У Канта "сила суждения" (в том числе и эстетическая) есть синтез теоретического и практического разума, как и у Аристотеля прекрасное есть, как мы видели, практическое осуществление сферы теоретического разума. У Канта эта "сила суждения" субъективно дана как "чувство удовольствия" и то же – у Аристотеля. Однако у Канта эстетический синтез продолжает быть "незаинтересованным" удовольствием, опираясь на "формальную целесообразность без цели"; у Аристотеля же тут полная "заинтересованность" и чисто жизненная "целесообразность", и в понятие прекрасного тут обязательно входит и морально высокое.
Интересно данное определение и в широко культурном смысле. Прекрасное Аристотель мыслит по-гречески, понимая под этим благородство античного аристократа, для которого физический труд есть позор, для которого женщина хуже мужчины и для которого внешняя человеческая слава и внутренняя созерцательная насыщенность, благоустроенность выше всего в сфере добродетели. Вот что пишет Аристотель в той же главе (Rhet. I 9) дальше:
"Прекрасно также то, из-за чего люди хлопочут, не будучи побуждаемы страхом, потому что они поступают так в вещах, ведущих к славе. Прекраснее добродетели и деяния лиц лучших по своей природе, так, например, добродетели мужчин выше, чем добродетели женщин. Точно так же прекраснее добродетели, от которых получается больше пользы для других людей, чем для нас самих; поэтому-то так прекрасно все справедливое и сама справедливость. Прекрасно также мстить врагам и не примиряться с ними, так как справедливо воздавать равным за равное, а то, что справедливо, прекрасно, и так как мужественному человеку свойственно не допускать побед над собой. И победа и почет принадлежат к числу прекрасных вещей, потому что как то, так и другое желательно, даже если и не соединено ни с какой материальной выгодой, и так как обе эти вещи служат признаком выдающихся достоинств. Прекрасно и все памятное, и чем вещь памятнее, тем она прекраснее. И то, что нас переживает и с чем соединен почет и что имеет характер чрезвычайного, [все это прекрасно]. Прекраснее то, что есть только в одном человеке, потому что такие вещи возбуждают более/внимания. Прекраснее также собственность, не приносящая дохода, как более соответствующая достоинству свободного человека. И то, что считается прекрасным у отдельных народов и что служит у них признаком чего-либо почетного, также прекрасно: как, например, считается прекрасным в Лакедемоне носить длинные волосы, ибо это служит признаком свободного человека, и не легко человеку, носящему длинные волосы, исполнять какую-либо рабскую работу. Прекрасно также не заниматься никаким низким ремеслом, так как свободному человеку не свойственно жить в зависимости от других (1367 а 15-32)". "Вообще понятие почетного следует возводить к понятию прекрасного, потому что эти понятия кажутся близкими одно другому. [Следует хвалить] и то, что является соответствующим и приличным, например, то, что достойно славы предков и деяний, ранее нами совершенных, потому что прибавить себе славы – счастье и прекрасно" (1367 b 11-14).
Социально-историческая природа этих рассуждений о прекрасном ясна и без дальнейших комментариев.
Общий вывод из всех основных рассуждений Аристотеля о прекрасном, очевидно, таков. По своему содержанию категория прекрасного относится только к реальному бытию, но не просто к бытию, а к такому, которое больше всего выразило свою идею, больше всего совершенно, больше всего ценно, прилично, достойно, прочно, богато, здорово и сильно. Обладание таким бытием доставляет высшую радость и блаженство. Человек владеет таким бытием и такими благами, такими вполне жизненными, вполне заинтересованными и вполне корыстными благами, но владеет ими так, что он остается внутренне свободным от них, не подчиняется им, а только бескорыстно, незаинтересованно созерцает их как самодовлеющую ценность. Характер этого совершенства жизненных благ определяется основной направленностью рабовладельческой аристократии. Однако незаинтересованное и самодовлеющее, самоудовлетворенное владение этими жизненными благами делает их прекрасными, а человека, владеющего ими, благородным, ни от чего и ни от кого не зависимым, достойным и свободным. Так соединяется у Аристотеля заинтересованная корыстность жизненных благ и ни в чем не заинтересованная, вполне бескорыстная и благородная красота обладания ими, то есть онтология и эстетика, в данном случае в отношении человека. А что это же самое нужно сказать и о космосе в целом, это мы уже исследовали выше.
2. Моральная и космическая красота.
Материалами "Риторики" не исчерпываются наши сведения об основной эстетической категории у Аристотеля. В "Метафизике" мы находим замечания, которые не прямо согласуются с "Риторикой" и требуют комментария.
А именно прежде всего в "Метафизике" (XIV 4, 1091 b 29-5, 1092 а 17) имеются суждения по вопросу о благе и красоте как принципах. Здесь, однако, для нас нет ничего неожиданного, так как Аристотель, критикуя платонический принцип первоединого, не допускает, чтобы он был действительно первопринципом. Для Аристотеля ведь нет никакой иной онтологической сферы выше ума. В указанном месте "Метафизики" и проводится такой взгляд, что нет ничего выше ума и что ум и есть самое благое и самое прекрасное. Об этом можно много интересного прочитать в XII книге "Метафизики".
3. "Неподвижность" прекрасного.
Больше разговоров вызывает другое место из "Метафизики". Именно, в Met. XIII 3, 1078 а 32 b 5 читаем:
"Так как затем благое и прекрасное это – не то же самое (первое всегда выражено в действии, между тем прекрасное бывает и в вещах неподвижных), поэтому те, по словам которых математические науки ничего не говорят о прекрасном или о благом, находятся в заблуждении. На самом деле, они говорят про него и указывают как нельзя более: если они не называют его по имени, но выявляют его результаты и [логические] формулировки, – это не значит, что они не говорят про него. А самые главные формы прекрасного, это – порядок, соразмерность и определенность, – математические науки больше всего и показывают именно их. И так как эти стороны, очевидно, играют роль причины во многих случаях (я разумею, скажем, порядок и момент определенности в вещах), отсюда ясно, что указанные науки могут в известном смысле говорить и про причину такого рода – причину в смысле прекрасного".
В этом тексте важно отметить следующие мысли: 1) благое и прекрасное противопоставляются как то, что "в действии" (en praxei), и то, что "неподвижно" (en acinёtois); 2) математический предмет прекрасен по самому своему смыслу; 3) самыми крупными видами прекрасного объявляются – "строй, симметрия и наличие предела" (taxis, symmetria, hörismenon).
Нельзя не удивиться, сравнивая указание здесь на "неподвижность" прекрасного с предыдущим учением о прекрасном как о "желательном" или "достойном выборе", как о предмете стремления. В чем тут дело? Ясно прежде всего, что этот текст из "Метафизики" вносит существенный корректив в определение "Риторики". В свете этого текста становится ясным, что в "Риторике" Аристотель имел в виду исключительно нравственную красоту. Да это и понятно, если мы учтем контекст этого рассуждения в "Риторике". Именно, Аристотель там говорит о похвальных и порицательных речах и в связи с этим ставит вопрос, что же, собственно говоря, достойно хвалы. Таким образом, никакой иной красоты, по-видимому, он и не мог иметь в виду в этом месте "Риторики". Совсем другое дело в XIII книге "Метафизики". Здесь идет речь только о математике. Говорить о нравственности здесь не может быть никакого повода. И тем не менее Аристотель все же нашел нужным вставить несколько замечаний о красоте математики. Значит, нравственно-высокое не есть обязательное условие для прекрасного. Но чем же тогда здесь определяется красота?
Надо иметь в виду, что, хотя Аристотель все время говорит об уме как вечном движении, он в то же время считает его и неподвижным. "Невозможно, чтобы движение возникло или уничтожилось". Также не может возникнуть или уничтожиться и время, "потому что если бы не существовало времени, то не могло бы существовать ни более раннего, ни более позднего". "Следовательно, движение так же непрерывно, как и время, потому что время или тождественно с движением, или является его аффекцией [акциденцией]" (XII 6, 1071 b 3-11). Итак, мир движется и существует во времени, но это потому, что есть то, что не движется и что не во времени.
Характеризуя это вневременное как ум, Аристотель полагает, что стремление его к самому себе и всего прочего к нему делает его предметом желания и любви. Но предметом желания, говорит Аристотель, является то, что кажется прекрасным, и мы желаем чего-нибудь потому, что оно кажется нам прекрасным, а не наоборот: вещь не кажется нам чем-то прекрасным потому, что мы ее желаем. Также ум сам для себя является и предметом мышления. Все это означает лишь то, что ум и первый двигатель есть вечная энергия. И эта энергия необходимым образом прекрасна, будучи сама неподвижна и тем не менее все приводя в движение. Небо с его круговращением и вся природа – прекрасны, как выявление этой вечной энергии умственного перводвижения (а 19 – b 14).
Эти рассуждения достаточно легко рисуют нам место категории неподвижности, покоя – в уме как в перводвигателе. Ум – движет, но сам он неподвижен. Поскольку он дан сам в себе, он – неподвижен; поскольку он берется в своих функциях осмысления всего инобытийного, он – подвижен. Взятый сам по себе, "теоретически", он есть и все свое бытие, которое он мыслит, так что он есть и все мыслимые им вещи, которые, следовательно, мыслятся в нем неподвижно. Взятый же "деятельно", "творчески", ум полагает свое мыслимое вне себя и вещи оказываются вне его самого. Стало быть, изменение и движение в нем происходит с участием материи; вне материи же он неподвижен:
"В некоторых предметах знание и есть сама вещь, в творческих же знаниях внематериальная сущность и форма [чтойность] есть сама вещь, в теоретических же знаниях смысл и мышление есть тоже сама вещь. А так как мыслимое и ум неразличимы в том, что не имеет материи, то они тождественны, так что мышление с мыслимым одно" (Met. XII 9, 1074 b 33 – 1075 а).
Другими словами, если в "Риторике" прекрасное понималось как добро (добро есть в свою очередь осуществление ума), и при этом добро, данное как таковое (с прибавлением чувства удовольствия), то в "Метафизике" прекрасное толкуется как ум, который хотя и есть вечная энергия, но сам по себе неподвижен, – вернее, круговращается сам в себе (XII 7, 1072 а 19 – b 13), то есть вместо того, чтобы выдвигать принцип блага как блага, здесь выставляется критерий отсутствия инобытийной материи, или принцип неподвижности. И там и здесь ум берется в своей осуществленности, но эта осуществленность должна быть адекватной, то есть той самой, которую и требует ум; тут не должно быть никаких расстраивающих инобытийных моментов. Это и значит брать ум в неподвижности. Таким образом, дело не в том, что для математической красоты отменяется принцип нравственного совершенства, а в том, что здесь он заменен другим видом совершенства, а именно принципом внематериальной, самодовлеющей осуществленности.
4. Прекрасное и благое.
Указанными мыслями отнюдь не ограничивается определение прекрасного у Аристотеля. Наоборот, здесь мы находим только еще начало разработки понятия прекрасного в отличие от блага.
а) Прежде всего, как понимает Аристотель математическое, то есть числа, если он в них находит наибольшую выраженность понятия прекрасного? К сожалению, вполне точного определения понятия числа у Аристотеля мы не находим. Правда, у Аристотеля все же имеется нечто вроде определения числа. Он пишет (Met. V 13, 1020 а 7-8):
"Количеством (poson) называется то, что может быть разделено на составные части, каждая из которых, будет ли их две или несколько, является чем-то одним, данным налицо".
В таком виде, как это здесь перевел Кубицкий, количество определяется у Аристотеля при помощи логической ошибки idem per idem, потому что такие понятия, как "делится", или "два", или "два или несколько", уже предполагают использование понятия количества. На самом же деле определение Аристотеля гораздо более тонкое. То, что Кубицкий переводит словами "является чем-то одним, данным налицо", по-гречески звучит hen ti cai tode ti pephycen. В этом выражении, во-первых, стоит глагол pephycen, что никак нельзя переводить "является", но – "по природе", то есть "в чистом виде". И, во-вторых, Аристотель здесь упирает на термин tode ti, что значит "вот что", то есть на такую индивидуальность, в которой еще пока не указано никаких качественных элементов (хотя они в ней и есть), но – на самый факт этой индивидуальности, на полагание чего-то, а чего именно – еще неизвестно. Другими словами, Аристотель в данном случае уже близок к пониманию числа и количества как бескачественных полаганий, что и было бы верно по существу. Но, конечно, определение это не отличается у Аристотеля большой ясностью; а то определение, которое мы находим в "Категориях" (гл. 6), и вовсе основано на путанице отвлеченного и нарицательного числа.
Тем не менее в отрицательном смысле Аристотель высказывал о числах весьма важные суждения. Можно считать если не определением числа, то, во всяком случае, тем, что необходимым образом связано с таким определением, указание Аристотеля на простоту, точность и первоначальную логическую значимость числа. Конечно, это еще не есть определение числа. Но это – то, без чего не может быть определения числа. Аристотель все время говорит, что так понимаемый математический предмет неотделим от чувственной действительности. Тем не менее в этой последней могут быть как случайные свойства и состояния, так и математическая простота и точность. И математик, с точки зрения Аристотеля, имеет полное право изучать чувственную действительность не в ее случайных состояниях, но именно в ее математической простоте и точности. Материя, которая входит как необходимый момент в понятие действительности, нисколько этому не мешает.
Прочитаем Met. XIII 4, 1078 а 9-31:
"Чем более мы имеем дело с тем, что с логической точки зрения идет раньше и что более просто, тем в большей мере [нашему познанию] присуща точность (а точность эта – в простоте); поэтому рассмотрение, которое отвлекается от величины, точнее, чем то, которое включает величину, и наиболее точно то, которое [вообще] не берет в расчет движения, если же оно имеет дело с движением, тогда оно всего точнее, направляясь на первый род его: этот род – самый простой, и в нем [проще всего] движение равномерное. И то же самое можно сказать и про теорию гармонии и про оптику: ни та, ни другая не рассматривает [свои предметы], поскольку они суть зрение или голос, но поскольку это – линии и числа (и, однако, здесь мы имеем специальные состояния того и другого). И точно так же обстоит дело и с механикой. А потому, если взять такие определения, отделив их от привходящих свойств, и рассматривать относительно них что-нибудь, поскольку они таковы, в этом случае не получится никакой ошибки – как и тогда, если делать чертеж на земле и принимать длину в фут у линии, которая этой длины не имеет: ведь ошибка здесь лежит не в предпосылках. И лучше всего можно было бы каждую вещь рассмотреть таким образом – поместить отдельно то, что в отдельности не дано, как это делает исследователь чисел и геометр. Человек есть нечто единое и неделимое, поскольку он – человек; а исследователь чисел принимает его [исключительно] как единое и неделимое и затем смотрит, присуще ли человеку что-нибудь, поскольку он – неделим. С другой стороны, геометр не рассматривает его ни поскольку он человек, ни поскольку он неделим, а поскольку это – [определенное] тело. Ведь если какие-нибудь свойства находились бы в человеке и тогда, если бы он случайно не был неделим, они, очевидно, могут быть даны в нем и независимо от указанных его сторон. И, таким образом, здесь геометры оказываются правыми и говорят о реальных вещах, и их предметы суть реальные вещи: ибо сущее имеет двоякий смысл, в одном случае оно дается в полной действительности, в другом – в виде материи".
Для Аристотеля является очень большой проблемой, существует ли помимо чувственных сущностей еще и неподвижная и вечная сущность. Точно так же ему важно знать, существуют ли математические сущности отдельно от вещей или в самих вещах, или же ни там и ни здесь, но в каком-то ином смысле; и тогда – каким же образом они существуют? (XIII 1).
По Аристотелю, числа существуют именно в особом смысле (XIII 2). Аристотель утверждает, что математические числа – одна из сторон чувственных вещей, хотя и не самые вещи (XIII 3), что и заставляет Аристотеля очень энергично критиковать теорию изолированного от вещей существования как самих идей (XIII 4-5), так и идеальных чисел (XIII 6-9). Начала, по Аристотелю, одновременно и единичны и всеобщи, так что одними числами исчерпать их никак нельзя. Об этом же читаем у Аристотеля вообще не раз (XIV 6).
Если иметь в виду отрицательное определение числа у Аристотеля, то, кажется, яснее всего у него сказано об этом в XIV 5, 1092 b 23-25. Здесь мы читаем:
"Число не является причиной благодаря своему созидательному действию – ни число вообще, ни то, которое слагается из единиц, и точно так же оно не есть ни материя, ни понятие и форма вещей. Но, конечно, оно не выступает и в качестве причины целевой".
Сюда же нужно отнести и такое, например, утверждение Аристотеля о числах, как (XIV 6, 1093 b 27-29):
"...Предметы математики нельзя отделять от чувственных вещей, как это утверждают некоторые, и начала вещей – не в них".
Представляется весьма понятным то обстоятельство, что Аристотель не хочет делать числа началами вещей. Ведь, в сущности говоря, под математикой он понимает только абстрактные исчисления и построения, которые действительно не могут трактоваться как подлинные начала вещей.
"В вещах неподвижных, например в математике, в последнем итоге дело сводится к определению или прямой, или соизмеримого, или чего-нибудь иного" (Phys. II 7, 198 а 17-18).
Математика ровно ничего не говорит о добре или зле, да и вообще не говорит ни о каком движении. Поэтому и невозможно считать числа какими-то принципами бытия. Об этом Аристотель говорит очень много.
"Поэтому-то математические речи совсем не отражают характера, так как не [отражают] намерения, в них нет "ради чего", а в сократовских речах [оно есть], потому что они касаются именно таких вопросов" (Rhet. III 16, 1417 а 19-22).
Ясно, что математика не в силах выразить собою сущности мира или мирового блага.
"А если будут существовать идеи или числа, они ни для чего не будут составлять причины или, во всяком случае, – отнюдь не для движения. Й кроме того, [в этом случае] каким образом величина и то, что непрерывно, может получиться из того, что не имеет величины? Ибо число не произведет непрерывного ни как движущая причина, ни как форма" (Met. XII 10, 1075 b 27-30).
"В самом деле, каким образом может для неподвижных вещей существовать причина движения или природа блага, раз все, что представляет собою благо, само по себе и по своей природе есть [известная] цель и выступает как причина в том смысле, что ради негожи возникает и существует все остальное; между тем цель и "то, для чего" являются [всегда] целью какого-нибудь действия, а все действия [сопряжены] с движением. Таким образом, в отношении вещей неподвижных нет места для этого начала и не может быть какого-либо блага в себе. Поэтому в математике и не доказывается ничего при посредстве этой причины, и никакое доказательство не основывается на том, что так лучше или хуже, но вообще ничего подобного нет [здесь] даже ни у кого и на уме. Вот почему некоторые софисты, например Аристипп, относились к математике с пренебрежением: [они указывали, что] в остальных искусствах – даже в тех, которые носят характер ремесел, например, в плотничьем и сапожном, – всякое утверждение основывается на том, что так лучше или хуже, между тем математическое искусство совершенно не говорит о хорошем и дурном" (III 2, 996 а 22-36).
б) Необходимо заметить, что здесь Аристотель вводит одно очень важное понятие, которое, по его мнению, совершенно отсутствует в математике. Это понятие цели. Однако все эти рассуждения Аристотеля о цели скорее относятся больше к его общей телеологии, чем к эстетике, хотя здесь не худо будет припомнить, что Кант тоже рассматривает телеологию в том же своем трактате, который посвящен и эстетике. Однако сначала сделаем тот вывод, который делает и сам Аристотель, но делает его не в порядке диалектического исследования, а в порядке описательного формально-логического метода. А именно, у Аристотеля получается так, что математические предметы одновременно находятся и в чувственности и вне чувственности. Это весьма поможет нам разгадать всю тайну аристотелевской эстетики. О том, что математическое одновременно находится и в чувственной действительности и вне самой ее, об этом красноречиво пишет Аристотель в следующем месте (Met. XIII 3, 1077 b 17 – 1078 а 5):
"Общие положения в математических науках относятся не к [каким-либо] обособленным предметам, [существующим] помимо пространственных величин и чисел, но именно к ним, однако, не поскольку они [таковы, что] имеют величину или допускают деление [на части], – и точно так же ясно, что и по отношению к чувственным величинам могут иметь место и рассуждения и доказательства, не поскольку они – чувственные, а поскольку у них – именно данный характер. Поскольку, скажем, вещи берутся только как движущиеся, о них возможно много рассуждений, независимо от того, что каждая из таких вещей собою представляет, а также от их привходящих свойств, и из-за этого нет необходимости, чтобы существовало что-нибудь движущееся, отдельное от чувственных вещей, или чтобы в этих вещах имелась [для движения] какая-то особая сущность; и точно так же и по отношению к движущимся вещам будут возможны рассуждения и науки, не – поскольку это движущиеся вещи, но лишь поскольку это – тела, и далее, поскольку это – только плоскости, и поскольку – только линии, также поскольку это – [величины] делимые, и поскольку – неделимые, но обладающие положением [в пространстве], и поскольку [наконец] – только неделимые. Поэтому если можно непосредственно приписывать бытие не только тому, что способно существовать обособленно, но и тому, что на такое существование неспособно (например – говорить о бытии того, что движется), в таком случае можно непосредственно приписать бытие и математическим предметам, и притом – бытие с такими свойствами, какие для них указывают [математики]. И как про другие науки верно будет непосредственно сказать, что они изучают свой предмет, но не [какое-нибудь] привходящее [его] свойство (например, про данную науку [нельзя сказать], что она есть наука про белое, если здоровое является белым, а она имеет своим предметом здоровое), напротив – наука будет наукой о таком-то предмете, поскольку она в каждом случае имеет с ним дело, – о здоровом, поскольку это – здоровое, а поскольку это – человек, о человеке: именно так будет обстоять дело и с геометрией. Если предметы, которые она изучает, имеют привходящее свойство – быть чувственными, но она изучает их не поскольку они – чувственные, в таком случае математические науки не будут науками о чувственных вещах, однако они не будут и науками о других существующих отдельно предметах за пределами этих вещей".
Это рассуждение Аристотеля настолько красноречиво и четко, что оно едва ли требует какого-либо комментария. Единственный комментарий, который здесь мог бы быть, вернее сказать, не комментарий, а критика, это – то, что Аристотель рассуждает здесь вполне диалектически, совершенно не понимая того, что тут у него именно диалектика, а не формальная логика, как это он сам думает.
в) Теперь зададим себе такой вопрос: если число находится и в самих вещах и вне вещей, то каковы же его функции, когда оно находится в вещах, и что оно делает с этими вещами? Тут мы подходим к одному из самых главных определений прекрасного у Аристотеля. Именно, как мы уже знаем, Аристотель учит, что благодаря числам вещи сохраняют свой определенный порядок (taxis), свою симметрию, или соразмерность, (symmetria) и свою определенность (hörismenon). Прочитаем еще раз (XIII 3, 1078 а 36 – 1078 b 5):
"А самые главные формы прекрасного, это – порядок, соразмерность и определенность, – математические науки больше всего и показывают именно их. И так как эти стороны, очевидно, играют роль причины во многих случаях (я разумею, скажем, порядок и момент определенности в вещах), отсюда ясно, что указанные науки могут в известном смысле говорить и про причину такого рода – причину в смысле прекрасного".
Нужно, однако, иметь в виду, что в подобного рода суждениях Аристотель меньше всего является формалистом. Но чтобы это понять, нужно опять вернуться к сопоставлению красоты и добра у Аристотеля и установить, что и само добро, хотя оно у Аристотеля и не сводится на математические предметы, все же содержит в себе нечто математическое в качестве одного из своих моментов. Только усвоив это учение Аристотеля, можно рассчитывать понять как подлинное размежевание красоты и добра у Аристотеля, так и подлинное их отождествление.
5. Окончательное размежевание красоты и добра.
Оба эти понятия настолько сложно переплетены у Аристотеля, что при первом ознакомлении с текстом Аристотеля может показаться, будто они вообще у него спутаны, как они спутаны в философской традиции до Аристотеля и, в частности, у Платона. Зададим себе прежде всего вопрос о том, что такое добро у Аристотеля само по себе, пока еще не касаясь проблемы прекрасного.
а) Мы уже видели выше, что, по Аристотелю, вечные идеи, никак не действующие, не есть высшее начало, но что даже и действующие идеи тоже еще не есть высшее начало (так как они могут и действовать и не действовать), и только то нужно считать высшим началом, что вечно действует и вечно определяет собою реальное движение вещей (Met. XII 7-8). Далее, мы видели, что, в отличие от Платона, Аристотель понимает эту высшую и последнюю цель и причину всякого движения именно в вечном Уме, который сам по себе у него уже не движется и который он тут же вместе с Платоном называет и высшим Благом (XII 7).
Это высшее благо является у Аристотеля целью всеобщего стремления или влечения, в сравнении с чем все математическое, которое Аристотель понимает не как движущее начало, никак не может считаться у него высшим началом. Однако здесь необходимо размежеваться с тем изложением эстетики Аристотеля, которое мы находим у Ю.Вальтера 53 и которое в настоящее время необходимо считать вполне устаревшим. Изложение Ю.Вальтера – очень подробное и является результатом большой эрудиции. Но это – эрудиция еще XIX века, формалистические принципы которого в настоящее время можно считать вполне преодоленными.
Ю.Вальтер совершенно правильно говорит, что ни принципы, ни систематика, ни метод Аристотеля не дают повода говорить о самостоятельной проблеме прекрасного у него 54 . Однако это свое суждение Ю.Вальтер доводит до абсурда, поскольку у него же самого приводится достаточно материалов для точного установления понятия прекрасного у Аристотеля. Курьезное впечатление, в частности, производит сопоставление у этого автора Аристотеля с Платоном. У него получается так, что все фрагментарно и у Платона и у Аристотеля, причем если эстетические экскурсы Платона, по Ю.Вальтеру 55 , тоже фрагментарны, но они по крайней мере целиком относились к проблеме определения сущности прекрасного, высказывания же Аристотеля уже совершенно случайны и имеют значение только на фоне платоновских и лишь догматически фиксируют гипотетически-диалектические мысли Платона.
Далее, согласно тому же автору, сама природа аристотелевского мышления, проявляющаяся в остроте наблюдения, в силе абстрагирующей рефлексии и настойчивом анализе, малоблагоприятна для синтетических процессов эстетического мышления. Ю.Вальтер думает, что подробность и научность метода Аристотеля не оставляют у этого философа никакого места для какой-нибудь неопределенности, которая давала возможность Платону предаваться эстетическим наблюдениям, и что Аристотель, например, не смог бы написать своего "Тимея", расправляясь с неизвестным при помощи игры с областью вероятного знания, так как у него даже вероятность заключена в строгие границы научного исследования. Другими словами, по Ю.Вальтеру, получается, что все прогрессивное у Аристотеля есть не что иное, как шаг назад по сравнению с Платоном. Даже музыка и поэзия, будучи искусствами, дополняющими природу и потому более интересующими Аристотеля, чем, например, погруженные в природу пластические искусства и живопись, служат для философа, если верить Ю.Вальтеру 56 , скорее, лишь новым материалом для познания с применением все тех же категорий причины и цели. "Казуистика трагедии", как выражается Вальтер, является у Аристотеля лишь каким-то довеском к учению о фигурах и модусах силлогизма.
Получается, по Ю.Вальтеру, что Аристотель не развивает и даже не принимает эстетических категорий, которые Платон по крайней мере начал разрабатывать в духе живого поэтического словоупотребления. Насколько Аристотель "натуралистичен" в учении о нравственности, настолько же его учение об искусстве проникнуто "психологической" и "моралистической" точкой зрения, гораздо в большей степени, чем учения Платона, который, несмотря на весь свой "моралистический ригоризм", обладает большей свободой взгляда в эстетической области.
В общих эстетических учениях Аристотеля, которые слишком изолированны и бедны, говорит Ю.Вальтер, не удается увидеть систематической основы для его частных учений об искусствах. Попытки разных исследователей, которые делались в этом направлении не без затрат остроумия, в большинстве случаев, по мнению Ю.Вальтера, наводят только скуку, потому что здесь привлекается материал не из эстетических, а из различных других учений Аристотеля, вязнут в подготовительных работах и даже не доходят до обсуждения существа дела.
Общие высказывания у Аристотеля, по Ю.Вальтеру, обладают характером лишь постоянного обращения назад. Они не служат у него для формирования новых эстетических взглядов, но лишь разъясняют и дают более точную формулировку многим из тех мыслей, которых случайно касался Платон в диалектическом движении своего философского исследования. Что же касается учений об искусствах, то тут Аристотель занял "психологическую" и "техническую" позицию, которая в дальнейшем действительно стала на долгое время господствующей в эстетике 57 . Отдельные понятия Аристотеля, касающиеся технических вопросов в отдельных искусствах, могли бы послужить основой для общего эстетического воззрения, если бы они получили значение принципиальных точек зрения, но они становятся у философа всегда лишь частностями поэтики и риторики, и в этих дисциплинах не образуют какой-либо плодотворной традиции. Не в учениях об искусствах, а в "Метафизике" следует искать обоснования прекрасного наряду с другими формами сущего. И в действительности, это сочинение оказывается важнейшим для определения понятия прекрасного. Но оно говорит о нем не как о самостоятельной области познания наряду с областями других наук, но лишь в порядке случайных размышлений, поводом для которых служат весьма далеко отстоящие от них вопросы. Ни прекрасное, ни благое не становятся определяющими для членения духовной деятельности. Здесь, как и во всех вопросах принципиального значения, Аристотель присоединяется к случайным формулировкам Платона 58 .
Во всех этих воззрениях Ю.Вальтера мы находим самую причудливую смесь правильных наблюдений с чистейшими курьезами. Совершенно правильно, что Аристотель пошел гораздо дальше в анализе эстетических понятий и что многое в эстетике он прямо заимствовал у Платона. Однако сказать, что эстетика у Аристотеля состоит только из анализа мелких и разрозненных понятий, не образует у Аристотеля никакого эстетического синтеза, это мы считаем теперь чудовищным. Ведь сам же Ю.Вальтер извлекает учение о прекрасном не из какого другого источника, а из "Метафизики" Аристотеля, синтетичности которой, кажется, никто никогда не оспаривал. Основным заблуждением Ю.Вальтера является также отрицание у Аристотеля эстетики как внутренней, в рамках системы уже самостоятельной дисциплины. При таких подходах к Аристотелю трудно ожидать от Ю.Вальтера точного разъяснения категорий доброго и прекрасного, как мы их находим у Аристотеля. Правда, разъяснение это требует преодоления разного рода трудностей, о которых мы сейчас будем говорить. Однако преодоление всех этих филологических и философских трудностей у Аристотеля впервые приведет нас к полному и окончательному размежеванию прекрасного и доброго, причем такое размежевание, постепенно и медленно нараставшее до Аристотеля, впервые именно у Аристотеля получает свою окончательную форму.
б) Прежде всего всякое благо является, по Аристотелю, целью стремления, как и ум является целью или предметом мышления. Человеческие действия и акты человеческого мышления могут быть истинными и могут быть только кажущимися. Когда мы берем истинное стремление и истинное мышление, то в пределе мы получаем Благо-в-себе и Ум-в-себе. То и другое является как целью, так и причиной стремления и мышления. Философ должен в первую очередь стремиться к этому. Будучи сознательным стремлением к цели, благо есть разумное стремление; и Благо-в-себе есть Ум-в-себе, то есть ум как цель. И чем выше благо, тем оно более общо и более точно. Высшее Благо есть не что иное, как высший Разум, потому что все одинаково стремится и к благу и к уму; и в конечном счете благо и ум есть цель, причина, конец и предел всего существующего. По Аристотелю, невозможно останавливаться только на констатации противоположностей в природе, как это делали древние натурфилософы, равно как и невозможно уходить в дурную бесконечность в целях нахождения окончательной причины. Такая окончательная причина для всего стремящегося и для всего мыслящего, как равно и его окончательная цель, и есть именно абсолютное добро и абсолютный ум. Прочитаем два следующих весьма важных рассуждения Аристотеля:
"Знание обо всем должно быть у того, кто в наибольшей мере владеет знанием в общей форме: такому человеку некоторым образом известна вся совокупность вещей [которая входит в круг этого знания]. Можно сказать, что и наиболее трудны для человеческого познания такие начала – начала наиболее общие: они дальше всего от чувственных восприятий. А наиболее точными являются те из наук, которые больше всего имеют дело с первыми началами: те, которые исходят от меньшего числа [элементов], более точны, нежели те, которые получаются в результате прибавления [новых свойств], например, арифметика точнее геометрии. Но и обучать более пригодна та наука, которая рассматривает причины; ибо научают те люди, которые указывают причины для каждой вещи. А знание и понимание, происходящие ради них самих, более всего свойственны науке о предмете, познаваемом в наибольшей мере: тот, кто отдает предпочтение знанию ради знания, больше всего отдаст предпочтение науке наиболее совершенной, а это – наука о максимально познаваемом предмете. Обладают же такою познаваемостью первые элементы и причины, ибо с помощью их и на их основе познается все остальное, а не они через то, что лежит под ними. И наиболее руководящей из всех наук, и в большей мере руководящей, чем [всякая] наука служебная, является та, которая познает, ради чего надлежит делать каждую вещь; а такою конечною целью в каждом случае является благо и вообще наилучшее во всей природе" (I 2, 982 а 21 – b 7).
"...Невозможно идти в беспредельность... Невозможно также, чтобы исходное [материальное] бытие, которое является вечным, уничтожилось [при возникновении из него чего-либо другого]: так как возникновение в восходящем ряду не беспредельно, тогда не может быть вечным то, из чего как первоисточника возникло что-нибудь через его уничтожение. – Далее, "то, для чего", это – цель, притом такая, которая не существует для другого, а для которой – все другое; поэтому если будет какой-нибудь такой последний момент, то не будет беспредельного [движение от одного к другому]; если же такого конечного момента не будет, то не будет цели ("того, для чего"). А те, кто [здесь] устанавливают беспредельное, незаметно для себя упраздняют природу блага; между тем никто не мог бы начать никакого дела, не имея в виду прийти к концу. И не было бы разума в таких людях: ибо ради чего-нибудь всегда действует тот, кто имеет разум; а это – предел; ибо цель есть предел" (II 2, 994 b 3-17).
Таким образом, совершенно точно нужно сказать, что, по Аристотелю, Благо-в-себе и Ум-в-себе являются целью для всего стремящегося и всего мыслящего, и без них нельзя себе представить того, чем вообще является всякое суждение и всякое мышление. Но еще и здесь не выявляется разница доброго и прекрасного. Здесь, скорее, говорится об их тождестве.
6. Несколько необходимых дистинкций.
Прежде чем заговорить об отличии прекрасного от благого по Аристотелю, необходимо отметить еще несколько очень важных дистинкций.
а) Благо не есть необходимость. Хотя благо не существует без необходимости, тем не менее в благе нет ничего насильственного О том, что благо невозможно без необходимости, об этом читаем (Met.V 5, 1015 а 20-28):
"Необходимым называется то, без чего, как содействующий причины, нельзя жить (например, дыхание и пища необходимы для живого существа; ибо существовать без них невозможно). Также [это название носит] то, без чего благо не может существовать или возникнуть, а зло нельзя устранить или от него освободиться (например, выпить лекарство необходимо, чтобы не быть больным, и поплыть в Эгину, чтобы получить деньги). Далее [о необходимом говорится] в применении к насильственному и к насилию; а таковым является то, что мешает и препятствует [в чем-либо] вопреки стремлению и сделанному выбору. В самом деле, насильственное называется необходимым: поэтому оно и причиняет печаль".
Таким образом, необходимость в смысле насилия Аристотель отличает от свободы. Но вечное бытие как раз не есть необходимость в смысле насилия, но является полной свободой. Это видно также из следующего рассуждения Аристотеля.
"О насильственной необходимости мы говорим по отношению к действию или состоянию [предмета] тогда, когда ему, по вине насилующего, нет возможности находиться в соответствии с собственным стремлением, причем в этом [насилующем] заключается та необходимость, из-за которой дело не может обстоять иначе. И таким же точно образом – в отношении причин, содействующих жизни и благу: когда без тех или других вещей невозможны в одном случае благо, в другом – жизнь и существование, тогда эти вещи признаются необходимыми, и такая причина есть своего рода необходимость" (V 5, 1015 а 35 – b 6). "Для одних [необходимых] вещей причиною их необходимости является [что-либо] другое, для других – никакой такой причины нет, но благодаря ним существуют необходимым образом другие вещи. Поэтому основною и главною необходимостью обладает простое; в отношении к нему дело не может обстоять по-разному, а значит также – на один лад, потом на другой, – в таком случае оно уже существовало бы по-разному. Если поэтому существуют некоторые вечные и неподвижные вещи, в них нет ничего насильственного или противного природе" (1015 b 9-15).
Значит, благое и прекрасное, по Аристотелю, есть такая необходимость, которая является абсолютной свободой, и такой всеобъемлющей областью, которая в то же самое время отличается абсолютной простотой.
б) Даже и природа у Аристотеля не есть железная необходимость, но она действует также и ради целей добра, так что даже само искусство отнюдь не пренебрегает природой, но только дополняет ее (Phys. II 8, вся глава). Поэтому "конечною целью в каждом случае является благо и вообще наилучшее во всей природе" (Met. I 2, 982 b 6-7).
"Благо есть цель всего возникновения и движения" (3, 983 а 32). Мы всегда предполагаем, что природе свойственно лучшее, "поскольку оно возможно" (Phys. VIII 7, 260 b 22-23). "Явлениям природы должно быть присуще, скорее, ограниченное и лучшее, если это окажется возможным" (6, 259 а 10-12). Природа стремится к благу (De somno et vig. 2, 455 b 17). "Все производится природой или по необходимости, или ради лучшего" (De animal, gener. I 4, 717 а 16; ср. II 4, 738 b 1). Природа стремится к прекрасному (De juv. et sen. 4, 469 a 28).
"Не следует ребячески пренебрегать изучением незначительных животных, ибо в каждом произведении природы найдется нечто достойное удивления... Надо и к исследованию животных подходить без всякого отвращения, так как во всех них содержится нечто природное и прекрасное. Ибо не случайность, но целесообразность присутствует во всех произведениях природы и притом в наивысшей степени, а ради какой цели они существуют или возникли – относится к области прекрасного" (De part, animal. I 5, 645 а 23-26).
"Природа одно порождает ради чего-нибудь, другое же – по необходимости. Необходимость же бывает двоякого рода: одна насильственно и против стремления, как, например, камень по необходимости движется кверху и книзу, однако не в силу одной и той же необходимости. В отношении же тех [предметов], которые появляются по намерению, одни никогда не появляются сами по себе, как, например, дом или статуя, и не по необходимости, а ради чего-то; другие же [бывают] и случайно, как, например, состояние здоровья или благополучие. Больше всего [ради чего] бывает в тех [случаях], когда нечто может быть и так и иначе, но возникает оно не случайно. Так что цель, благо, ради чего что-нибудь происходит, возникает или по природе, или искусственно. Случайно же не происходит ничего, что [происходит] ради чего-нибудь" (Anal. Post. II 11, 95 а).
Из всех приведенных материалов необходимо сделать тот вывод, что эстетика Аристотеля, как и вся его философия, в сущности говоря, есть телеология. При этом, однако, телеология мыслится у Аристотеля очень широко. Телеологическое рассмотрение предметов, например, нисколько не мешает и их причинному рассмотрению. Свою телеологию Аристотель каким-то удивительным образом умеет объединять с детерминизмом, поскольку необходимость в природе у него все же допускается, несмотря на общую целенаправленность природы. Случайность также допускается в природе, как и необходимость. Но красота и добро, взятые сами по себе, ни в каком случае не могут являться ни случайными, ни насильственно необходимыми. И случайное и насильственное может быть свойственно только несовершенным формам добра и красоты. И эти несовершенные формы для Аристотеля тоже есть реальность. Другими словами, телеология, лежащая у Аристотеля в основе эстетики и всей философии, понимается им чрезвычайно широко и свободно.
в) О том, что благое и прекрасное, будучи одним и тем же, может быть и абсолютным и относительным, причем только относительное связывается с необходимостью, или с насилием, а также и с удовольствием, об этом читаем такое весьма важное рассуждение Аристотеля: "Счастье (eydaimonia) составляет деятельность в духе добродетели и совершенное применение этой последней, и это – не в условном (ex hypotheseös), но в абсолютном смысле (haplös); под "условным" я разумею необходимое [для достижения счастья], под "абсолютным" – прекрасное само по себе" (Polit. VII 12, 1332 b 9-11).
Это свое общее рассуждение Аристотель поясняет следующим образом: "Справедливо наложенные наказания и кары суть акты добродетели, но как акты, вызванные необходимостью, они заключают в себе прекрасное только в силу этой необходимости, и было бы куда предпочтительнее, если бы прибегать к подобного рода актам не было нужды ни человеку, ни государству. Напротив, акты, направленные к доставлению почета и благосостояния, суть акты наипрекраснейшие с абсолютной точки зрения. Дело в том, что акты первого рода направлены лишь к удалению какого-либо зла, акты же второго рода, наоборот, имеют своею целью уготовать и создать благо" (1332 а 12-18).
Эта мысль повторяется у Аристотеля не раз. В том же трактате, в гл. III 5, Аристотель находит сущность государства вовсе не в каких-нибудь необходимых или полезных для граждан обстоятельствах, но государство "появляется лишь тогда, когда образуется общение между семьями и родами ради благой жизни, в целях совершенного и самодовлеющего существования" (1280 b 33-35; ср. такое же выражение ниже, 1280 b 40 – 1281 а 1, а также и выше, I 1, 1252 b 27-30). Следовательно, благое, которое является в то же самое время и прекрасным, хотя и может при известных обстоятельствах быть связанным с необходимостью, на самом деле вовсе не есть только необходимость, но – только свобода. Государство, основанное на насущных потребностях, вовсе не преследует целей прекрасного (IV 3, 1291 а 16-18).
"Условимся, что на долю каждого приходится столько же счастья, сколько моральной и интеллектуальной добродетели и согласованной с нею деятельности. Порукою нам в том божество, которое счастливо и блаженно не в силу каких-либо внешних благ, но само по себе и в силу присущих его природе свойств. В этом-то и состоит, конечно, отличие счастья от счастливой удачи; внешние блага, не духовные, выпадают на нашу долю благодаря случайности и счастливой судьбе, но нет никого, кто был бы справедливым и скромным от судьбы и благодаря ей. Следствием этого положения, вытекающим из тех же самых оснований, является то, что и наилучшее государство есть вместе с тем государство счастливое и руководящееся в своей деятельности принципом прекрасного. Действовать прекрасно невозможно тем, кто совершает не прекрасные поступки; и никакого прекрасного деяния ни человек, ни государство не может совершить без моральной и интеллектуальной добродетели" (VII 1, 1323 b 21-33).
"Не соответствует истине превозносить бездеятельность над деятельностью, так как счастье (eydaimonia) предполагает именно деятельность, причем деятельность справедливых и скромных (söphronön) людей заключает в своей конечной цели много прекрасного" (3, 1325 а 31-34). "Между подобными друг другу существами прекрасное и справедливое заключается в чередовании [властвования и подчинения], потому что это чередование и создает равенство и подобие, неравенство же между равными и различие между одинаковыми суть явления противоестественные, а ничто противоестественное не может быть прекрасным. Поэтому если какой-либо человек будет превосходить другого в добродетели и окажется в состоянии проявлять наилучшую деятельность, то следовать за таким человеком – прекрасно, а повиноваться ему – справедливо" (1325 а 31-32). "...Едва ли мыслимо было бы допустить прекрасное [у Жебелева неправильно: "благое"] существование божества и всего мира, у которых нет никакой внешней деятельности, помимо лично им присущей внутренней" (1325 b 28-30). "Нужно, чтобы граждане имели возможность заниматься своими делами и, [в случае надобности], вести войну, но, что еще предпочтительнее, наслаждаться миром и [правильно] пользоваться "досугом", совершать все необходимое и полезное, а еще более того – прекрасное" (13, 1333 а 41 – b 3).
Понимая под прекрасным только фактическое произведение, а не его внутреннюю цель (это бывает иногда, например, когда рабскую работу выполняют свободнорожденные), Аристотель говорит, что "наши действия отличаются сами по себе не столько тем, имеют ли они в виду прекрасное или не прекрасное, сколько тем, какова их конечная цель, то есть ради чего они совершаются" (1333 а 9-11). И вообще, перечитывая Аристотеля, приходится только удивляться, насколько глубоко и настойчиво он говорит о самодовлении прекрасного в отношении такой прозаической области, как государственные, общественные, деловые и житейские вполне заинтересованные отношения между людьми. Между прочим, в учении об этом прекрасном и самодовлеющем государстве промелькивает и категория меры (metron), что и естественно для красоты, имманентно пронизывающей и государство и все живое (4, 1326 а 25-40).
Из всех этих материалов Аристотеля выясняется, что прекрасное и доброе только в случайном порядке связывается с необходимостью, с внешней полезностью или с областью удовольствий. И прекрасное и доброе есть прежде всего абсолютная свобода, которая ничему не подчиняется, а, наоборот, ей должно подчиняться все прочее, хотя свобода эта отнюдь не противоестественна, а есть самая настоящая природа, всегда деятельная. Подобного рода материалов у Аристотеля – огромное количество. Прибавим к ним еще несколько выразительных текстов.
г) Характеризуя старческий возраст как нечто бессильное и недоброе, все время требующее только одной полезности и выгоды, Аристотель пишет: "Полезное есть благо для самого [человека], а прекрасное есть безотносительное благо" (Rhet. II 13, 1389 b 38 – 1390 а 1). Здесь словами "безотносительное благо" переведено то, что у других переводчиков выражается как "простое" или "абсолютное" благо.
"[Нужно] говорить не по расчету, как [поступают] теперешние люди, а согласно намерению [принципу] [например]: "я этого хотел, потому что считаю это лучшим, и это лучше, даже если я здесь не получу никакой пользы". Первое [расчет] свойственно человеку благоразумному, второе [принцип] – человеку хорошему: благоразумному в его погоне за полезным, хорошему – за прекрасным" (III 6, 1417 а 24-28). Цель лучше средства (Ethic. M. I 2, 1184 а 3).
Весьма интересным текстом является таковой, где дается прямое и точное определение блага.
"Определим благо, как нечто такое, что желательно само по себе, ради чего мы желаем и другого, к чему стремится всё или по крайней мере всё, способное ощущать и одаренное разумом, или если бы было одарено разумом. Благо есть то, что соответствует указаниям разума; для каждого отдельного человека благо то, что ему указывает разум относительно каждого частного случая; благо – нечто такое, присутствие чего делает человека спокойным и самоудовлетворенным; оно есть нечто самодовлеющее, нечто способствующее возникновению и продолжению такого состояния, нечто сопутствующее подобному состоянию, мешающее противоположному состоянию и устраняющее его" (Rhet. I 6, 1326 а 21-29).
И вообще на эту тему о природе блага много ценных мыслей с весьма понятными примерами можно найти в том же трактате в главах I 6-7 (ср. I 3). Ясно, что такое благо в себе уже не предполагает для себя никакого более высокого закона, но оно уже само по себе есть закон. И такую идею Аристотель проводит и в своей "Политике", где он различает тех несовершенных людей, которые нуждаются в законе, и тех, которые отличаются наивысшей добродетелью и потому не подчиняются никаким законам, но сами являются законом (III 8, 1284 а 2-14). В "Этике Никомаховой" (III 6) тоже проводится мысль о том, что нравственно совершенный человек также является "мерилом и законом" для каждого случая и поступка. Следовательно, благое и прекрасное, по Аристотелю, как абсолютное начало, не нуждается ни в каких законах. Но нечто закономерное им свойственно. А именно, они сами есть закон для всего существующего.
д) Для эстетики Аристотеля и для его учения о прекрасном очень важен его анализ удовольствия и страдания. Благое не есть просто удовольствие и не есть нечто просто приятное. Добродетель уже сама по себе является некоторого рода удовольствием, и особенно то, что носит название блаженства (эвдемонии) (Ethic. Nic. VII 12-15). Блаженство довлеет себе и тоже ни от чего не зависит. Оно есть одновременно и добродетель и удовольствие с неразличимостью того и другого. Хотя нашу волю определяют прекрасное, полезное и приятное (II 2), тем не менее блаженство в некотором роде неразличимо объединяет в себе эти три начала (ср. гл. VII 1-11). Поэтому, согласно Аристотелю, не всякое удовольствие прекрасно, и не все полезное прекрасно, и даже не всякий разум прекрасен, хотя все эти элементы неразличимо содержатся и в прекрасном. В анализе всех этих состояний Аристотель проявляет тончайшую наблюдательность, которая весьма далека от всяких односторонних преувеличений. Его учение о добродетели или блаженстве, например, нисколько не мешает ему считать благом и обыкновенное жизненное удовольствие.
"Добродетели необходимо суть благо, потому что люди, обладающие ими, счастливы; добродетели производят блага и научают пользоваться ими. Удовольствие также необходимо есть благо, потому что все живое стремится в силу своей природы к удовольствию. Вследствие этого всеприятное и прекрасное необходимо есть благо, потому что приятное доставляет удовольствие, а из прекрасных вещей одни приятны, другие желательны ради самих себя" (Rhet. I 6, 1362 b 2-9).
"Интеллектуальное развлечение, по общему признанию, должно заключать в себе не только прекрасное, но также и доставлять удовольствие, потому что счастье состоит именно в соединении прекрасного с доставляемым им удовольствием" (Polit. VIII 5, 1339 b 17-19).
Страница сгенерирована за 0.04 секунд!