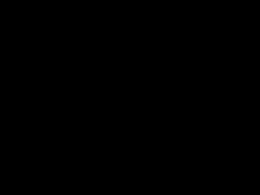Сторожевой катер мо. Малые противолодочные корабли
За основу была взята модель от фирмы Комбриг, но из самого набора в работу пошла только рубка и тумбы 45мм пушек. Корпус и шлюпка были сделаны из пластика. Автор модели и статьи - Алексей Никитин .
Описание конструкции катера
Малые охотники типа МО-4 спроектированы как дальнейшее развитие охотника типа МО-2. В отличие от МО-2 незначительно увеличили длину и ширину, а так же убрали срез палубы в корме, борт уменьшили на 100 мм, к тому же катера получили более мощные главные двигатели, что способствовало увеличению полного хода. В мирное время охотники несли сторожевую службу в составе соединений морпогранохраны НКВД, а в военное время использовались для борьбы с подводными лодками противника в составе ВМФ, а так же для охраны водного района (ОВР).
Корпус у катера гладкопалубный, деревянный. Надстройка состояла из боевой рубки и открытого ходового мостика. Непотопляемость обеспечивалась делением корпуса водонепроницаемыми переборками на 9 отсеков. Катер имел удивительную непотопляемость, бывали случаи, когда катера приходили на базу даже с оторванным носом. Спасательные средства на катерах представлены одной четырёхвёсельной шлюпкой, расположенной в корме на палубе и спасательными кругами .
Силовая установка механическая, трёхвальная с тремя бензиновыми моторами ГАМ-34БС по 850 л.с., обеспечивала полную скорость до 27 узлов. Вид топлива бензин марки Б-70. На катерах военной постройки устанавливались моторы различных марок и мощности, на некоторых катерах имелось по два мотора, а скорость не превышала 22-24 узлов.
Электроэнергетическая система включала две динамо-машины постоянного тока ПН-28,5 мощностью по 2 кВт, расположенные в кормовом машинном отделении. Машина закрытого типа, со смешаным возбуждением создавала напряжение 115 В, при силе тока до 17А.
Вооружение катеров состояло: из двух одноствольных 45-мм полуавтоматов 21-К, двух одноствольных 12,7 мм
пулемётов ДШК, двух бомбосбрасывателей для глубинных бомб. Начиная с 1944 года 45мм пушки 21-К заменялись на таког же калибра 21-КМ с увеличенной длиной ствола, дополнительно устанавливались 20мм автоматы «Эрликон» и 25мм автоматы 84-КМ, кроме того, дополнительно ставились пулемёты различных систем, а на некоторых катерах устанавливались установки реактивных снарядов «катюша».
Катера комплектовались компасом, шумопеленгаторной станцией "Посейдон" и морскими дымовыми шашками.
Строились катера на Приморском заводе №5 в Ленинграде, а в годы войны также на заводах №640 и №638. Головной катер вошёл в строй флота в 1936 году. Всего в 1937-1945 годах было построено 261 катеров. 



Во время Великой Отечественной войны катера зарекомендовали себя одними из наиболее универсальных и востребованных кораблей советского военно-морского флота.
Тактико-технические характеристики катеров типа МО-4:
- Водоизмещение: нормальное 53,5 тонны, полное 56,5 тонн.
- Длина наибольшая: 26,9 метра.
- Ширина наибольшая: 4,0 метра.
- Высота борта на миделе: 2,9 метра.
- Осадка по корпусу: 1,5 метра.
- Скорость хода: полная 27 узлов, экономическая 16 узлов.
- Дальность плавания: 800 миль при 16 узлах.
- Автономность: 3 суток.
- Вооружение: две 45-мм полуавтоматические пушки 21-К, два 12,7-мм пулемета ДШК, два бомбосбрасывателя, 8 больших и 28 малых глубинных бомб, 6 дымовых шашек (МБДШ), шумопеленгатор «Посейдон».
Из истории службы «СКА-065»
Широкую известность не только на Черноморском флоте, но и в мире получил бой «СКА-065» с фашистскими самолётами 25 марта 1943 года в районе Фальшивого Геленджика. В тот день катер под командованием старшего лейтенанта П.П.Сивенко следовал в составе охранения американского транспорта «Achilleon» из Геленжика в Туапсе. Волнение моря достигало семи баллов, что серьёзно затрудняло маневрирование и стрельбу. Лётчики немецких самолётов, атаковавшие конвой, были возмущены тем, что более чем тринадцати бомбардировщикам оказал сопротивление какой то небольшой катер. Оставив в покое транспорт, фашисты звёздными налётами набросились на «СКА-065». В ходе неравного жестокого боя охотник получил около 200 пробоин от осколков бомб и снарядов авиапушек. Сместилась рулевая рубка, был разбит форштевень, сорвано ограждение ходового мостика, пробиты цистерны и трубопроводы, разрушена левая скула корпуса - таков неполный перечень полученных повреждений. Но, тем не менее, малый охотник продолжал вести огонь и уклоняться от падающих бомб. От затопления носовых помещений образовался 15-градусный дифферент на нос. Экипаж отбивался от врага и одновременно боролся за живучесть охотника. Уцелевшие семь человек во главе с командиром сделали всё, чтобы спасти свой катер.
Израсходовав весь запас бомб и снарядов, самолёты улетели. Заглохшие моторы были введены в строй через 40 минут. Катер догнал «Achilleon» и самостоятельно преодолел оставшиеся 50 миль до базы.
После этого боя катер «СКА-065» стал Гвардейским.
Модель
За основу была взята модель от фирмы Комбриг, но из самого набора в работу пошла только рубка и тумбы 45мм пушек. Корпус и шлюпка были сделаны из пластика . Мачта, флагштоки, стволы пушек, пулемёты и стойки к ним, привальные брусья на корпусе, шпиль, битенги, якоря, якорные цепи, кнехты, вехи, спасательные круги - из
В качестве отклика на статью Л. Л. Ермаша «Как создавался малый охотник» был опубликован небольшой отрывок из воспоминаний служившего в годы войны на «охотниках» Владимира Сергеевича Бирюка. Судя по отзывам, этот отрывок, посвященный будням отважных катерников, вызвал большой интерес. Предлагаем вниманию читателей еще несколько эпизодов боевой деятельности катеров типа «МО-4» на Черном море.
Боевые качества «МО-4» получили достойную оценку уже в самые первые месяцы войны. Если же говорить об официальном их признании, то у нас на ЧФ, пожалуй, первым по времени документом, содержащим краткую, но достаточно полную характеристику «охотников», был «Отчет о десантной операции по освобождению Керченского полуострова и городов Керчь и Феодосия 26-31 декабря 1941 г.». Начальник штаба флота контр-адмирал Н. Д. Елисеев писал: «В данной операции, как и во всей боевой деятельности флота, с лучшей стороны показали себя СКА типа «МО-4». Они являлись прекрасным средством высадки, охранения, ПВО и ПЛО».
Сейчас, спустя сорок лет, благодаря трудам историков можно во всех подробностях представить себе ход упомянутой операции. Тогда же, естественно, мы - краснофлотцы - знали о происходящем только то, что можно было видеть с палубы «МО». А операция была поистине грандиозная: в состав десантных сил входило 42 000 бойцов! Для их высадки сразу в нескольких точках восточной части Крыма было собрано 97 боевых кораблей и целая армада рыбачьих байд, баркасов, шлюпок, дубков и т. л.
Беспрецедентной была дерзкая операция по высадке десанта с больших кораблей прямо в занятой врагом Феодосии. Началась она мощной артподготовкой: 29 декабря в 03.50 крейсера и эсминцы открыли огонь из всех стволов главного калибра. «Железняков» и «Шаумян» стреляли при этом осветительными снарядами с целью освещения акватории и территории порта. Одновременно наши «охотники» Отряда высадочных средств |ОВС), следуя в ночной темноте под самым берегом, начали движение ко входу в порт.
В 04.03 с крейсера «Красный Кавказ» дали зеленые ракеты, означавшие: «Огонь прекратить, катерам прорываться!». Как раз к этому моменту благодаря инициативе командира ОВС капитан-лейтенанта А. П. Иванова катера не только подошли к Феодосийскому маяку, но и отыскали узкий проход между маяком и бонами заграждения.
Первым в гавань на полном ходу ворвался «СКА-0131» лейтенанта И. Г. Черняка. Он высадил на защитный мол штурмовой отряд (28 бойцов) и группу навигационного обеспечения. Несмотря на самое ожесточенное сопротивление немецких автоматчиков, морякам удалось захватить маяк и южную часть мола, отбить два вражеских орудия. Убитого командира штурмового отряда заменил комсорг катера - командир отделения минеров Н. Ф. Туманов. Во время прорыва в гавань он метким огнем ДШК умело подавлял огневые точки противника. Он первым выскочил с винтовкой на причал и, несмотря на ранение в руку, возглавил десантников. Боцман катера С. П. Рокотов сорвал фашистский флаг и поднял над Феодосийским маяком наш красный флаг.
Другой катер - «СКА-013» лейтенанта А. В. Власова, описав циркуляцию, «прочесал» огнем причалы и занялся боновыми заграждениями. Секцию бонов отвели в сторону и в 04.12 дали сигнал: «Вход в гавань свободен!» С приближением эсминцев катерники осветили им проход ракетами. После этого «СКА-013» высадил на мол группу разведчиков и трех краснофлотцев-швартовщиков для приемки концов с крейсера «Красный Кавказ», который в это время подходил к стенке. Только с третьей попытки - маневру мешал сильнейший отжимной ветер - огромному 160-метровому кораблю удалось подать концы и подтянуться к молу. А эсминцу «Незаможник» и вообще пришлось таранить стенку с ходу, а затем высаживать десантников через нависающий над причалом полубак. Крейсер «Красный Крым» стал на якорь в 2 кабельтовых от мола и начал высаживать солдат на корабельные баркасы и подходившие один за другим к трапам «охотники»...
Происходило все это под ураганным огнем противника. Прямой наводкой по неподвижным кораблям били орудия всех калибров, сотни минометов и пулеметов. За те полчаса, которые длилась разгрузка «Красного Кавказа», на нем 8 раз тушили пожары! Тяжелый снаряд пробил бортовую броню и едва не вызвал взрыв погребов: спас крейсер - ценою жизни - краснофлотец Василий Попутный, успевший вытащить из элеватора горящий, как факел, заряд.
Перебрасывавший десантников от борта «Красного Крыма» «СКА-013» получил два прямых попадания: образовалась подводная пробоина, были повреждены моторы. Только тогда катер ушел - своим ходом - в Новороссийск.
В Феодосийской операции приняло участие 11 СКА типа «МО-4», («013», «0131», «051», «052», «061», «063», «032», «97», «141», «146» и «147»), Ими было высажено 266 человек штурмового отряда, занявшего причалы, перевезено на берег с крейсеров 4423 десантника. Не будем забывать, что сам 140-мильный ночной переход из Новороссийска при 7-балльном норд-весте представлял для перегруженных катеров непростую задачу. В мирное время в такую погоду их просто не выпустили бы в море.
Отважные экипажи «охотников», как правило, намного перекрывали все и всяческие нормы, используя резервы, заложенные конструкторами при разработке проекта этого замечательного катера.
Так, 4 сентября 1942 г. «СКА-082», участвуя в эвакуации наших частей с Таманского полуострова, принял на борт 115 красноармейцев со всем вооружением и типографию политотдела Азовской флотилии. На переходе ветер достигал силы 8 баллов. Для сохранения остойчивости пришлось сбросить за борт палубный груз - глубинные бомбы весом около 2 т. Катер благополучно доставил людей в Новороссийск.
Через несколько дней обстановка резко осложнилась, Уже из некоторых районов самого Новороссийска надо было эвакуировать части, попавшие в окружение. 10 сентября «СКА-022» получил приказание следовать к пристани «Динамо» (рыб-завод), чтобы принять войска для перевозки их в тыл. Ночью катер под командованием старшего лейтенанта Г. П. Павлова под огнем противника на полном ходу подвалил к пристани. Боцман В. Н. Лапин с помощью командоров Н. И. Чикина м П. А. Черноморца, старшины 2 статьи А. Я. Дмитричева сумел организовать прием и размещение эвакуируемых та», что через 9 минут катер уже выходил из опасной, простреливаемой из всех видов оружия зоны, имея на борту 125 бойцов.
И 125 - это не был предел, хотя по инструкции полагалось принимать не более 50 человек с оружием (90 - без оружия и багажа(. Через два часа «СКА-022» снова вернулся к той же пристани. Противник освещал район скопления наших войск осветительными снарядами, засыпал минами. Катер получил четыре пробоины, но не прекращал погрузку людей. За 7 минут под ураганным огнем было принято на борт 157 человек с вооружением!
Такая - более чем втрое - перегрузка, при которой катер садился в воду чуть ли не по самые иллюминаторы, существенно ухудшала его мореходные качества. Следуя в Геленджик при волнении около 3 баллов и ветре 4-5 баллов, «СКА-022» при любом изменении курса черпал воду бортом. Поворот при помощи одних рулей был невозможен, повернуть удавалось лишь на волне. В узкостях маневрирование осложнялось тем, что диаметр циркуляции при положении руля «на борт» превышал нормальный в 6-8 раз! Нечего и говорить: на подобных переходах, а редкостью они не были, доставалось всему экипажу и особенно - командиру катера и рулевому.
Любой из боевых выходов требовал полного напряжения сил, самоотверженности, стойкости. Вот, для примера, протокольная запись 120 минут из жизни экипажа «СКА-028» во время Новороссийской десантной операции 9-10 сентября 1943 г., с которой началась легендарная Малая земля.
В 3.16 катер находился у Западного мола, уклоняясь от мин и снарядов противника - маневрируя с переменной скоростью хода от 6 до 14 уз. Ветер - норд-ост силой 3-4 балла, видимость - от 1-2 кб до 50-30 м, акватория задымлена пожарами. На борту размещен десант - 75 человек. Чтобы было понятно, что такое 75 человек на 26-метровом катере, расшифруем слово «размещен». На камбузе стояли 4 человека, в 4-местном кубрике - 12, в 8-местном - 32, в коридоре кают-компании - 3, в умывальнике - 1, в кают-компании - 14; два станковых пулемета с расчетами установлены на баке, батальонный миномет с расчетом из 5 человек - на юте. Это еще не все. «Охотник» вел на буксире два мотобота, на каждом из которых находилось по 44 бойца.
В районе, намеченном для высадки, насчитывалось большое количество огневых точек, включая бронепоезд. Когда «023» повернул к берегу, стараясь оставаться в темной части акватории, противник не только вел огонь из шестиствольных минометов, 75-мм пушек и 20 мм автоматов, но и попивал катера пулеметно-автоматным огнем.
В 3.17 в корме произошел взрыв от прямого попадания мины в ящики с боезапасом. Катер сильно встряхнуло, но он остался на курсе и шел без крена и дифферента. Вышли из строя подшипник баллера левого руля, электропроводка в районе шп. 74-80, пожарная помпа; в настиле палубы образовалась пробоина 1,5X1,0 м; в кают-компании возник пожар. Спустя 2 минуты вспыхнула электропроводка в носовом МО. В 3.23 от попадания зажигательного снаряда загорелся кранец первых выстрелов носовой пушки. В 3.25 осколками была выведена из строя кормовая 45-мм пушка. Через минуту загорелась палуба в районе 8-местного кубрика. Правая цистерна оказалась пробитой, из нее стал вытекать бензин. Была перебита радиоантенна, выведен из строя приемник «КУБ-4».
Однако, несмотря ни на что, в 3.20, приткнувшись носом к берегу, охваченный пламенем «СКА-028» начал высадку десанта.
Поскольку обе помпы не работали, пожар на юте тушили, используя огнетушители, маты, бушлаты, брезент. Пожар в носовом МО быстро прекратили краснофлотцы Фомин и Идиатулин. Другие, менее опасные пожары личный состав ликвидировал, даже не докладывая командиру катера, бессменно стоявшему на мостике. С поступлением воды в районе форпика удалось справиться при помощи ручной помпы. Управление рулями перевели на румпель-тали.
Выполнив свою задачу по высадке десанта, катер отошел от берега, в 3.40 прекратил вести огонь, а к 6.50 с огромным трудом, на одном двигателе, добрался до Геленджика, имея на борту 10 убитых и 27 раненых...
Конечно, бывало и так, что, как отмечало однажды командование 2-го дивизиона СКА, «неразумное использование катеров делало невозможным выполнение поставленной им задачи, так как экипажам было впору заботиться только о своей живучести и непотопляемости». Помню, уже в конце войны на Черном море «СКА-022» вышел в море для конвоирования танкера «Москва». Штормило. Не знаю, сколько было баллов, но кренометр в рулевой рубке метался из стороны в сторону, как сумасшедший. Качка была стремительной, иногда казалось, что легший на борт катер уже не встанет! Веяной сорвало кранец первых выстрелов носовой пушки, протащило его по голубе и пробило им рулевую рубку. Одновременно вырвало крышку входного люка. В одно мгновение залило камбуз и радиорубку. Радио- и гидроакустическая станции вышли из строя. С сильным дифферентом на нос катер был вынужден вернуться в Одессу...
Всякое бывало, но одно можно сказать с уверенностью. Безопасность наших морских коммуникаций, а на Черном море они, по существу, были единственными путями снабжения наших фронтов, в подавляющем большинстве случаев обеспечивалась катерами «МО-4». Круглосуточное наблюдение за морем и небом, отражение атак вражеских подводных лодок, самолетов-торпедоносцев и особенно - бомбардировочном и истребительной авиации противника считалось нормальным повседневным делом личного состава «охотников». Тактика действий противника даже в самые тяжелые для нас дни тщательно изучалась, опыт лучших наших кораблей незамедлительно становился достоянием всего действующего флота. Но приходилось иногда сталкиваться и с совершенно непредвиденными обстоятельствами, противоречившими всем канонам морской практики.
В ночь на 2 марта 1942 г. «СКА-075» под командованием лейтенанта А. М. Ванина, получив специальное задание, вышел из Новороссийска в Керчь. На траверзе мыса Утриш катер обогнал пароход «Фабрициус», также шедший в Керчь с войсками и необходимыми фронту грузами.
Это судно относилось к разряду «старичков», так как построено было в Англии еще в 1906 г. и первоначально носило загадочное имя «Саида». Сразу после последнего докования, проведенного еще за пять-шесть лет до войны, оно развивало скорость до 9 уз. Этот показатель теперь, конечно, был уже анахронизмом: перегруженный «Фабрициус» полз, как черепаха. Охотник, идущий под тремя моторами 25-уз-ловым ходом, вскоре потерял его из виду.
Неожиданно стоявшие на мостике услышали за кормой катера приглушенный расстоянием взрыв. Сомнений не было: что-то случилось с «Фабрициусом». С разрешения находившегося на борту члена Военного совета фронта «СКА-075», описав циркуляцию, лег на обратный курс. Уже издали все стало ясно - торпедирован! Капитан «Фабрициуса» М. Григор в мегафон сообщил, что машина из строя выведена, в один из трюмов поступает вода, есть убитые и раненые.
От командира «СКА-075» требовалось немедленное решение. И лейтенант Ванин нашел его. Он произвел сковывающее бомбометание, которое должно было отогнать лодку от цели, если она собиралась добить пароход, и приказал... готовить буксирный конец!
Поскольку тумба кормового 45-мм орудия могла не выдержать, боцман Файнман завел буксирный трос вокруг корпуса катера - брагой. Пароход не был «левиафаном», но по тогдашним черноморским меркам представлял довольно крупное судно: дедвейт его равнялся 4277 т, осадка в грузу составляла 6,2 м. А главное, 50-тонный быстроходный катер с его по существу авиационными моторами никоим образом не предназначался для выполнения буксировочных операций. Однако, ко всеобщей радости, «охотник» все-таки смог стронуть с места громаду и потащил со скоростью, которая лишь немногим отличалась от былой скорости неповрежденного парохода.
У орудий и пулеметов напряженно застыли расчеты: враг мог атаковать вторично. Тревожно прислушивался к надрывному гулу двигателей старшина группы мотористов Киселев: моторам никогда не приходилось испытывать такой физической, а ему - моральной нагрузки. Спустя некоторое время на помощь пришел «СКА-046». Необычная операция продолжалась четыре часа. Приблизившись к берегу, катера отдали буксирные концы, и «Фабрициус» по инерции медленно выполз на отмель.
За спасение парохода «Фабрициус» личному составу «СКА-075» специальным приказом Военного совета Закавказского фронта была объявлена благодарность.
Вот еще один необычный случай. 21 февраля 1943 г. из Поти вышел конвой в составе парохода «Иурск» и трех «охотников». Путь в 163 мили до Туапсе предполагалось пройти с таким расчетом, чтобы встать под разгрузку в темное время суток, катера охранения, следуя в боевой готовности № 3, внимательно вели наблюдение за морем и воздухом. Где-то на траверзе Новоафонского монастыря с подменой вахты поужинали. День заканчивался на редкость спокойно. Тщательно прослушав гидроакустикой излюбленный немецкими подводниками район, где они чаще всего занимали позиции для своих атак, никого не обнаружили.
Где-то в темноте затаились Сочи. «Курск» шел, прижимаясь к берегу и почти сливаясь с ним, катера двигались мористее. Прошли Лазаревское. Время начало отсчет новых суток, Спало Черное море. На этот раз оно не выматывало стремительной качкой, не обдавало впередсмотрящих холодной соленой водой: беззвучно падали на палубу редкие снежинки. Рейс заканчивался удачно - так думали все, поскольку до Туапсе оставался сущий пустяк - каких-нибудь 7 миль.
В первом часу сигнальщики обнаружили, что «Курск» потерял ход. Паровая машина транспорта мощностью 3200 и. л. с. исправно вращала гребной вал, огромный гребней винт неутомимо взбивал за кормой пену, но никакого движения не наблюдалось. «Курск», имеющий осадку около 8 м, очевидно, плотно сидел на банка.
Сквозь облачность робко выглянула луна. Где-то еще далеко, но ощутимо тревожным гудением дал о себе знать одиночный «Юнкере». Обстановка менялась на глазах. Нам, краснофлотцам, вспомнилась последняя перед походом политинформация. Политрук рассказывал, что транспорт, подобный «Курску», за один рейс может перевезти 2000 бойцов с вооружением, 200 средних танков или продовольствие на два месяца для 4-5 дивизий.
Командиры катеров перебирали все возможные варианты спасения судна, но ни один из них не был приемлем в данной ситуации. Часы неумолимо отсчитывали ночное время. С рассветом «Курск» неминуемо превратится в прекрасную неподвижную мишень для бомбежки!
На нашем «СКА-022» минер старшина 2 статьи Александр Яковлевич Дмитричев поднялся на мостик и что-,то тихо сказал командиру. Старший лейтенант Георгий Павлович Павлов кивнул головой, сразу же спустился на палубу и, открыв дверь в радиорубку, приказал: «Вызовите по УКВ командиров СКА и капитана «Курска»!»
Павлов - участник героической обороны Одессы и Севастополя - был одним из самых смелых и решительных командиров СКА. Его хорошо знали на флоте. Капитаны облегченно вздыхали, когда в охранение их судов назначался катер с номером «022». Личный состав «охотника» безгранично верил своему бесстрашному командиру, уже в первые месяцы войны награжденному орденом Боевого Красного Знамени.
Через несколько минут он, кратно изложив суть своего предложения, дал команду транспорту - работать машиной «самый полный назад», а на «охотниках» рукоятки машинных телеграфов всех трех двигателей (по 850 л. с.) перевести в положение «полный вперед».
Дымовая труба парохода задымила: у топок трех старых котлов зашуровали приунывшие было кочегары. Взревев моторами, три катера выстроились в кильватерную колонну и со скоростью 25 уз начали описывать круги вокруг неподвижной громады «Курска».
Дмитричев напомнил то, что Павлов хорошо знал и сам. Когда по реке Холи, где размещались тогда береговые базы «МО» и торпедных катеров, проходил даже на среднем ходу какой-нибудь лихач, рвались швартовы у стоящих лагом катеров, а шлюпки и прочие мелкие плавсредства оказывались на берегу. И тогда мегафоны в руках моряков, выскакивающих на палубы бешено пляшущих на волнах катеров, полностью оправдывали свое неофициальное название - матюгальники. Выражения при этом не были пустым звуком, а грозили нарушителю морской этики далеко идущими последствиями при сходе его на берег...
Павлов хорошо понимал, что «Курск» - не шлюпка и не катер, но другого выхода не было. И вот три СКА продолжали крутиться, разводя немыслимую толчею волн. Весь их личный состав, кроме мотористов, напряженно всматривался в проступившие сквозь предутреннюю мглу очертания парохода с характерной высокой и тонкой дымовой трубой. Все время казалось,* что «Курск» начинает двигаться, но стоило «привязаться» к какому-нибудь ориентиру на берегу - иллюзия пропадала.
Заканчивался час беспримерной карусели, когда неожиданно раздался крик: «Пошел!». У сигнальщика Михаила Еремина, первым заметившего, как двинулся пароход, от напряжения даже сорвался голос...
Павлов, заглушив два мотора, устало присел на откидное сиденье у обвеса мостика. Отрапотовав машинным телеграфом «стоп», из люка носового МО высунулся старшина 2 статьи Алексей Яковлевич Черский и вопросительно посмотрел на командира.
Все в порядке, парторг! Раскачали «старика», не оставили на растерзание. Спасибо твоим мотористам!
На рассвете «Курск» благополучно ошвартовался в Туапсе. А нам предстояло идти дальше на север, в Геленджик, а оттуда к Мысхако - на обеспечение героически сражающегося десанта Цезаря Куникова и Федора Котанова. Начиналась эпопея Малой земли, в которую «морские охотники» вписали не одну славную страницу.
А закончилась боевая деятельность черноморских «охотников» участием в выполнении необычной и ответственной задачи - обеспечении безопасности Ялтинской конференции 4-11 февраля 1945 г.
Наш «СКА-022» перед Новым 1945 годом вернулся в Стрелецкую бухту Севастополя с брезентовым пластырем на рулевой рубке."Несмотря на неисправленные повреждения, катер был включен в группу охранения. Сменяя один другого, круглосуточно несли бдительный дозор на траверзе ливадийского Воронцовского дворца наши «МО-4» и американские корветы. Во время кратковременного отдыха в Ялте личный состав «СКА-022» не раз посещал американцев, которые неизменно с большим уважением, радушно встречали советских моряков. Осматривая американские корветы, мы невольно отмечали, что заокеанские конструкторы меньше всего думали о тех, кто будет служить на спроектированных ими кораблях. Впечатление было такое, будто попал на подводную лодку. На боевых постах тесно, как в танке.
9 февраля на «СКА-022» неожиданно прибыл страшно озабоченный старший морской начальник Ялты капитан 2 ранга Леут. В тот же день привезли краску, боцман незамедлительно начал колдовать над ее колером. Стало известно, что на следующий день возможно посещение кораблей находящимися в Ялте главами правительств трех союзных держав.
Надо было успеть не только покрасить катер, но и, главное - привести в надлежащий вид рубку, замаскировав дыру в ее носовой стенке. Работа закипела. Поздно ночью командир докладывал о выполнении приказа, а мы долго еще не могли заснуть, проверяя до мельчайших деталей оборудование и форму первого срока. Кок до блеска драил камбуз и все, что в нем находилось: кто знает, а вдруг высокие гости захотят отведать флотского борща!
Утром все бинокли были разобраны и устремлены на шоссе, ведущее в сторону Алупки. Зашевелились и на соседнем корвете. После завтрака, который проглотили с оглядкой на берег, на углах улиц, выходящих на набережную, были обнаружены группы людей в штатском, которые никуда не торопились. А спустя еще несколько часов на набережную медленно выехала кавалькада черных лимузинов с задернутыми шторками на окнах. Мы замерли в парадном строю, всматриваясь в остановившиеся на берегу машины. Вспоминались прошедшие грозные годы. Сердца наполнялись гордостью за наш народ, за его славный Военно-Морской Флот.
Неизвестно, что явилось причиной пересмотра распорядка дня участников Конференции, но визит на корабли не состоялся. Машины двинулись дальше и проследовали в направлении Массандры. Через несколько дней весь мир был оповещен о состоявшейся в Крыму Конференции.
Советское правительство по достоинству оценило героизм и отвагу моряков в годы Великой Отечественной войны. В числе награжденных было и несколько соединений черноморских «морских охотников». Орденом Красного Знамени были награждены 1-й и 4-й Новороссийские, 5-й и 6-й Керченский дивизионы СКА.
«Морской охотник» «СКА-065» был удостоен звания Гвардейского. 25 марта 1943 г. этот катер, конвоировавший транспорт, дважды был атакован вражеской авиацией - группами по 16 самолетов. Катер получил свыше 500 больших и малых пробоин. Вышли из строя два двигателя, третий имел повреждения. Рулевая рубка и ходовой мостик были разбиты, носовые отсеки заполнены водой. Больше половины личного состава было убито и ранено. Несмотря на это катер продолжал отражать атаки самолетов и вышел победителем: транспорт дошел до Геленджике. С затопленными кубриками, с сильным дифферентом на нос, под одним часто глохнувшим мотором «СКА-065», преодолев свыше 50 миль, своим ходом пришел в базу.
В представлении на звание Гвардейского кратко перечислялись боевые действия «СКА-065» с 22 июня 1941 г. по 25 марта 1943 г.: отконвоировал 118 транспортов; нес дозорную службу 140 суток; 32 раза осматривал и бомбил фарватеры, обеспечивая вход и выход кораблей из баз; 32 раза ставил дымзавесы; провел 3 боевых траления, уничтожив 8 мин; 4 раза высаживал диверсионные группы (69 человек) в тыл противника; высадил 1840 десантников; 5 раз участвовал в разведке у берегов, занятых противником; вывез 1028 раненых; участвовал в поиске подводных лодок противника 15 раз, в поиске торпедных катеров - 6 раз; отражал налеты авиации 185 раз, причем сбил 3 и подбил 6 самолетов; 12 раз обстреливал в набеговых операциях берег противника; 10 раз оказывал помощь нашим кораблям и самолетам, получившим боевые повреждения.
Что и говорить, славная статистика!
Нашей молодежи, нынешним комсомольцам есть с кого брать пример. Изучение боевых эпизодов времен Великой Отечественной войны поможет им всегда быть готовыми, если потребует Родина, встать с оружием в руках на защиту священных рубежей, приумножить славные боевые традиции старшего поколения.
В годы Великой Отечественной войны основная боевая нагрузка легла на советский «москитный» флот - торпедные катера, бронекатера, сторожевые катера и малые охотники, катера-дымзавесчики, катера-тральщики, катера ПВО. Наиболее сложной была работа малых охотников, МО-4, которые боролись с подводными лодками противника на Чёрном море и Балтике.

Сторожевой катер №026 в Севастополе, июль 1940 г. Этот катер с марта по сентябрь 1941 г. использовался в качестве опытового судна НИМТИ ВМФ. На заднем плане виден крейсер «Красный Кавказ»
Малые охотники по-советски
Подводные лодки стали реальной угрозой надводным кораблям в годы Первой мировой войны: «законодателями мод» были германские подводники,но не отставали и их коллеги из других стран. Вскоре после начала боевых действий тоннаж потопленных субмаринами судов превысил потери от надводных кораблей. «Доставалось» от подлодок и боевым кораблям - германская «U-9» потопила три британских крейсера, a «U-26» русский броненосный крейсер «Паллада». В этих условиях флоты всех стран стали лихорадочно искать способы борьбы с подводной угрозой.
В Российской империи решили применять для борьбы с подводными лодками небольшие быстроходные катера. На них устанавливали несколько пушек и пулемётов и использовали для эскортной службы. Эти небольшие кораблики зарекомендовали себя как универсальное средство борьбы на море и, помимо конвоирования, их привлекали к выполнению других задач. Наиболее удачными оказались «катера-истребители» типа «Гринпорт», построенные в США. Они принимали активное участие в боевых действиях во время Первой мировой и на фронтах Гражданской войны. Часть из них уцелела и вошла в состав советского флота, но к середине 20-х их все списали.


Катера типа МО-4, идущие с большой скоростью, обращали на себя внимание динамичностью формы, лёгкостью и стремительностью хода. Они обладали высокой скоростью хода, манёвренностью и мореходностью
В межвоенный период во всех странах подводные лодки активно развивались и необходимо было искать эффективные способы борьбы с угрозой из под-воды. В СССР в 1931 г. начали проектирование малого охотника за подводными лодками типа МО-2. Причём его создавали как единый тип малого боевого корабля; в мирное время он должен был выполнять задачи по охране государственной границы, а в военное действовать в составе флотов. Ещё одним условием была возможность перевозки корпуса катера по железной дороге. Было построено около 30 катеров, но в процессе испытаний и эксплуатации выявились их многочисленные конструктивные недостатки. Строительство остановили, и в 1936 г. была начата работа над новым малым охотником типа МО-4. В нём были учтены недостатки предшественника, и конструкторам удалось создать удачный корабль, который в ходе эксплуатации зарекомендовал себя с лучшей стороны. Корпус катера строился из первосортной сосны и имел хорошую живучесть. При небольших размерах он получил мощное вооружение, мог использоваться для траления (оснащался змейковым тралом или катерным параван-тралом) и минных постановок. На борт принимали шесть мин типа Р-1 либо четыре обр.1908 г., или две обр.1926 г., или четыре минных защитника. Для поиска подводных лодок на охотники устанавливали шумопеленгатор «Посейдон», а с 1940 г. гидроакустическую станцию «Тамир». Три бензиновых мотора ГАМ-34БС (мощностью 850 л.с.) каждый были просты и надёжны в эксплуатации. Они обеспечивали катеру высокую скорость хода, через 30 с после получения приказа он мог дать малый ход, а через 5 мин полный. Малый охотник имел хорошую манёвренность и достаточную мореходность (до 6 баллов). Его внешний вид отличала динамичность формы, лёгкость и стремительность хода. На МО-4 улучшилась обитаемость: весь экипаж получил спальные места, все жилые помещения имели вентиляцию и отопление, на катере разместили кают-кампанию и камбуз. Испытания, проходившие на Чёрном море в 1936-37 гг., не выявили серьёзных недостатков в конструкции МО-4 и вскоре началось строительство крупной серии для ВМФ и НКВД. Серийное строительство катеров было развёрнуто на ленинградском заводе НКВД №5. До начала войны на нём было построено 187 катеров: 75 МО пополнили состав флотов и флотилий, 113 вошли в состав Мор-погранохраны НКВД. Часть малых охотников, вошедших в состав Краснознамённого Балтийского Флота (КБФ), приняли участие в советско-финской «зимней» войне. Морским пограничникам пришлось осваивать морские границы Литвы, Латвии и Эстонии, вошедших в состав СССР в 1940 г. После начала войны с Германией серийное строительство типа МО-4 велось на нескольких заводах страны: №5, №345, №640, астраханской судоверфи Наркомрыбпрома и московской судоверфи Наркомреч-флота. Несмотря на все трудности, в тяжёлые военные годы было построено 74 катера типа МО-4.
Малые охотники принимают бой
К началу Великой Отечественной войны в состав Краснознамённого Балтийского флота входило 15 малых охотников и 18 сторожевых катеров. НКВД располагало 27 катерами типа МО-4: 12 в Таллине, 10 в Либа-ве, 5 в Усть-Нарве. В первые недели войны в его состав вошли катера из состава Морпогранохраны НКВД, продолжали поступать и новые катера ленинградской постройки. Как уже отмечалось, в Ленинграде на заводе №5 продолжалось строительство катеров типа МО-4, всего было построено около 50 катеров. Часть катеров МО была переведена на Ладожское озеро, где была создана военная флотилия.


Расчёты орудий готовы отразить нападение противника. Вооружение катера составляли два 45-мм полуавтомата 21-К, двух крупнокалиберных пулемётов ДШК. В бомбосбрасывателях на корме размещались восемь больших глубинных бомб ББ-1 и 24 малых БМ-1. И шесть шашек нейтрального дыма МДШ
В ночь с 21 на 22 июня 1941 г. дежурство перед военно-морскими базами несли у Таллина СКА №141, у Либавы СКА №212 и №214, у Кронштадта СКА №223 и №224. Им первым пришлось отражать налёты немецкой авиации, которая бомбила порты и ставила мины на фарватерах. Минная опасность стала основной на Балтике в 1941 г., наш флот оказался не готов к борьбе с минной опасностью и нёс большие потери. Например, 24-27 июня катера МО принимали участие в проводке крейсера «Максим Горькой» из Таллина в Кронштадт. Ему взрывом мины оторвало носовую часть. Наш флот начал выставлять оборонительные минные заграждения, их постановку обеспечивали и катера МО-4. Они и сами стали ставить минные банки в шхерах у вражеских берегов. Ежедневно малым охотникам приходилось отражать атаки вражеской авиации, торпедных катеров и субмарин, нести дозор у баз и портов, охранять транспорты и конвои, сопровождать подводные лодки и боевые корабли, выходившие на боевые операции.

Сторожевые катера «ПК-239» (типа МО-4) и «ПК-237» (типа МО-2). С началом войны их включили в состав КБФ и они принимали участие в обороне Ханко. Обратите внимание - оба катера ещё с двумя мачтами. С началом войны грот-мачту демонтировали

Сторожевой катер в одной из островных баз КБФ. Обратите внимание на скопление плавсредств на заднем плане - на базе ведётся подготовка к очередной десантной операции
Наши войска не смогли отразить немецкое наступление на границе и вскоре Вермахт подошёл к Таллину. Ожесточнные бои развернулись на подступах к главной базе Балтийского флота, активное участие в них принимала морская пехота и корабли КБФ. Флот обеспечивал доставку с большой земли маршевых пополнений и боеприпасов. Обратно вывозились раненые и мирное население. Оборона Таллина продолжалась 20 дней, но к утру 28 августа город пришлось оставить. Все войска, их вооружение и важнейшие грузы были погружены на многочисленные корабли, транспорты и вспомогательные суда. Эти силы флота, вошедшие в состав четырёх конвоев, начали прорыв через Финский залив в Кронштадт. В их числе были 22 катера типа МО-4: шесть в отряде главных сил, четыре в отряде прикрытия, семь в арьергарде, по два МО охраняли конвои №1 и №3, один МО входил в охрану конвоя №2. Им предстояло пройти 194 миль, оба берега Финского залива были уже заняты противником, который поставил минные заграждения, сосредоточил авиацию и «москитные» силы, использовал береговые батареи. Немногочисленные тральщики КБФ смогли протралить лишь небольшую полосу, ширина этого фарватера составляла всего 50 м. Многие тихоходные неповоротливые суда выходили из неё и сразу подрывались. Ситуацию усугубляли многочисленные плавающие мины, которые плавали в протраленной зоне. Их приходилось буквально отталкивать от бортов. Катера сразу направлялись к месту гибели и спасали уцелевших. Моряки катеров поднимали на палубу замёрзших искалеченных людей, покрытых толстым слоем мазута. Их согревали, одевали и оказывали первую медицинскую помощь. Один из спасённых сам спас катер - курсант ВВМУ им. Фрунзе Виноградов подплыл к борту «МО-204», но увидел плавающую мину, руками отвёл её от катера и лишь после этого ухватился за спасательный конец. Во время перехода погибли 15 боевых кораблей и 31 транспорт, в Кронштадт пришли 112 кораблей и 23 транспорта (есть и другие данные о числе кораблей). Помимо Таллина, была проведена эвакуация с Моонзунда, островов в Выборгском и Финском заливе. Вермахт вскоре блокировал Ленинград. 30 августа в районе Ивановских порогов, отражая атаки немецких войск, погибли «МО-173» и «МО-174». Флот сосредоточили в Ленинграде и Кронштадте, корабли теперь могли действовать лишь в пределах «Маркизовой лужи». Катера несли дозор, сопровождали конвои, проводили разведку места вражеских крупнокалиберных батарей, которые обстреливали корабли и город. Они приняли участие в Петергофском десанте. Ожесточённые бои шли и на Ладожском озере. Немецкие и финские войска окружили город, авиация атаковала корабли флотилии, начали действовать вражеские корабли. МО-4 обеспечивали высадку десантов, эвакуировали войска, поддерживали огнём войска, воевали с авиацией и кораблями противника. Например, «МО-206» отличился при боях за остров Рах-мансаари 7-10 сентября 1941 г., а «МО-261» принимал участие в прокладке морского бронированного кабеля в октябре 1941 г.
После потери Таллина и Моонзунд-ских островов крайними западными точками нашей обороны были острова Гогланд, Лавенсаари и военно-морская база Ханко. Здесь были сосредоточены лёгкие силы флота. Оборона ВМБ Ханко продолжалась 164 дня - с 22 июня по 2 декабря. После этого была проведена поэтапная эвакуация. Уцелевшие катера типа МО-4 вошли в состав Истребительного отряда Охраны водного района Кронштадта. Зима в 1941 г. была ранней и суровой: лёд сковал Неву, завершалась навигация и в Финском заливе. Уже в середине ноября катера были подняты на стенку и установлены на клетки, моторы и механизмы выгрузили и законсервировали на берегу. Экипажи поселили в казармах, кроме ремонта корпусов и механизмов, они занимались боевой подготовкой, патрулировали город и Неву. Первая военная навигация завершилась.


Боевые повреждения «мошек». Корпус из трёхслойной первосортной сосны увеличивал живучесть катера и позволял «выжить» даже с такими пробоинами
На Чёрном море к началу войны находилось 74 катера: 28 в составе ЧФ, 46 в составе Морпогранохраны НКВД. Утром 22 июня в море вышли «МО-011», «МО-021» и «МО-031», которые провели траление внешнего рейда Севастополя, но ни одной магнитной мины уничтожить не смогли. С первых дней войны моряки начали отслеживать места падения немецких мин у Севастополя, их заносили на карту и потом «обрабатывали» глубинными бомбами. Например, 1 сентября «МО-011» подобным образом уничтожил три немецкие мины. «Мошки», как и на Балтике, несли дозоры, конвоировали транспорты, прикрывали минные постановки, расстреливали плавающие мины и вели противолодочную оборону. Им приходилось отражать массированные атаки авиации. Например, 22 сентября в районе Тендры «МО-022» атаковали десять Ю-87, погиб командир катера, многие члены экипажа были убиты и ранены, катер получил много пробоин, и его пришлось посадить на мель. Катера принимали участие в обеспечении перевозок для защитников Одессы, которые в течение 73 дней обороняли город. На их счету успешное эскортирование сотен судов и конвоев: транспорты совершили 911 рейсов, из них 595 пароходов эскортировали малые охотники, 86 БТЩ и 41 эсминцы. 16-17 октября 34 сторожевых катера эскортировали суда каравана, на котором была проведена эвакуация Одессы. Был потерян лишь один транспорт, который шёл в балласте. Это самая успешная эвакуация, проведённая советским флотом.

Малый охотник черноморского флота выходит из Стрелецкой бухты Севастополя. На заднем плане хорошо виден владимирский собор на Херсонесе

Сторожевой катер №1012 «Морская душа». Он был построен в годы войны на средства писателя-мариниста Л.А. Соболева. Он получил Сталинскую премию за книгу «Морская душа» и целиком потратил её на его постройку
30 октября начинается оборона главной базы Черноморского флота. В ней приняли активное участие корабли и катера ОВРа, которые базировались в Карантинной и Стрелецкой бухтах. Части Вермахта ворвались в Крым, и крупные корабли ЧФ перешли на Кавказ. Началась эвакуация базы, вывозили имущество заводов и арсеналов. Эту эвакуацию прикрывали катера и, к сожалению, им не всегда удавалось отразить все атаки авиации. Например, два МО-4 (по другим данным «СКА-041») сопровождали санитарный транспорт «Армения», эвакуировавший из Севастополя персонал морского госпиталя. 7 ноября они не смогли отразить атаку одиночного Не-111. В транспорт попала торпеда, и через несколько минут он затонул. Погибло более 5000 человек. Катерам охранения удалось спасти лишь восемь человек. А «МО-011» 8 ноября в течение пяти часов успешно отражал налёты вражеской авиации. Ему удалось без потерь доставить в Новороссийск плавдок, который буксировал ледокол «Торос». Часть МО-4 также перешла на Кавказ, в Севастополе остались лишь тральщик «Т-27», плавбатарея №3, десять катеров типа МО, девять катеров типа КМ, семнадцать катеров-тральщиков и двенадцать ТКА. Они тралили севастопольские фарватеры,встречали и провожали входившие в порт корабли, прикрывали их дымзаве-сами, вели противолодочный дозор. После начала зимнего штурма ситуация под Севастополем ухудшилась: немецкие батареи теперь могли обстреливать всю нашу территорию, активней стала действовать вражеская авиация. Чтобы улучшить ситуацию, советское командование провело ряд десантов: в Камыш-Бурун, Феодосию, Судак и Евпаторию. В них самое активное участие принимали МО-4. Расскажем подробнее о подготовке и проведении евпаторийского десанта.
В ночь на 6 декабря СКА №041 и №0141, вышедшие из Севастополя, высадили в евпаторийском порту разведывательно-диверсионные группы. Они успешно обезвредили часовых и захватили полицейское управление. Собрав информацию и освободив узников, разведчики покинули здание. Другая группа провела диверсии на аэродроме. В городе началась паника, немцы открыли беспорядочную стрельбу. Наши разведчики без потерь вернулись на катера. Собранная ими информация позволила подготовить десант. Вечером 4 января из Севастополя вышел БТЩ «Взрыватель», буксир «СП-14» и семь катеров типа МО-4 (СКА №024, №041, №042, №062, №081, №0102, №0125). На них разместили 740 десантников, два танка Т-37 и три 45-мм пушки. Они смогли незаметно войти в евпаторийский порт и захватить его. Им удалось захватить центр города, но потом морпехи встретили упорное сопротивление. Корабли прикрытия отошли на рейд и начали поддерживать десантников огнём. Немцы подтянули резервы, вызвали авиацию и танки. Десантники не получили подкреплений и боезапаса и были вынуждены перейти к обороне. Тральщик был повреждён авиацией, лишился хода и был выброшен на берег. Катера получили повреждения и были вынуждены уйти в Севастополь. Им на смену подошли корабли с пополнением, но из-за шторма не смогли войти в порт. Уцелевшие десантники ушли в партизаны.
Зимний штурм удалось отразить и ситуация под Севастополем стабилизировалась. Немцы продолжали бомбить и обстреливать город, но активных действий не предпринимали. Катера продолжали нести службу. 25 марта 1942 г. в Стрелецкой бухте Севастополя свой подвиг совершил старший краснофлотец Иван Карпович Голубец. От артиллерийского огня на СКА №0121 загорелось машинное отделение, огонь подбирался к стеллажам с глубинными бомбами. Их взрыв уничтожил бы не только катер, но и соседние катера. Со сторожевого катера №0183 с огнетушителем прибежал И.Г. Голубец и начал тушить пожар. Но из-за разлившегося топлива это сделать не удавалось. Тогда он начал сбрасывать за борт глубинные бомбы. Большую часть ему удалось выбросить, но в этот момент произошёл взрыв. Моряк ценой жизни спас остальные катера. За этот подвиг ему посмертно было присвоено звание Герой Советского Союза.


Тяжело повреждённый сторожевой катер №0141 своим ходом возвращается в базу после Новороссийской десантной операции, сентябрь 1943 г.
Уничтожив советские войска на Керченском полуострове, противник начал подготовку к новому штурму. Севастополь был блокирован с моря и с воздуха. В блокаде принимали участие торпедные и противолодочные катера, мини-субмарины, истребители, бомбардировщики и торпедоносцы. Немецкая авиация господствовала в воздухе. Каждый корабль теперь прорывался в осаждённую крепость с боем. После многодневной массированной артподготовки и постоянных бомбардировок 7 июня Вермахт перешёл в наступление. Силы и ресурсы защитников Севастополя таяли с каждым днём. 19 июня немцы вышли к Северной бухте. Вскоре началась агония Севастополя. Уцелевшие защитники собрались в районе 35-й батареи на мысе Херсонес. Здесь было много раненых и был собран комсостав армии, ожидавший эвакуации. У них не было боеприпасов, катастрофически не хватало воды, еды и медикаментов. Но до Севастополя дошли лишь несколько подлодок и базовых тральщиков, ни один крупный корабль в Севастополь не пришёл.
Основная тяжесть по эвакуации легла на катера МО. Вечером 1 июля к причалу у мыса Херсонес первым подошёл СКА №052. На него хлынула толпа людей, и он спешно отошёл от причала. При возвращении на Кавказ его атаковал торпедный катер и авиация противника, но их атаки были отбиты. В ту же ночь защитников города приняли на борт «МО-021» и «МО-0101». При прорыве на Кавказ «МО-021» был тяжело повреждён авиацией. Подошедшие катера сняли с него уцелевших, и катер затонул. СКА №046, №071 и №088 приняли людей у Херсонеса и ушли на Кавказ. СКА №029 ушёл в Казачью бухту, принял на борт партактив Севастополя и ушёл на Большую землю. На переходе его атаковала авиация, нанесла тяжёлые повреждения, но он был встречен нашими катерами и приведён в Новороссийск. СКА №028, №0112 и №0124 приняли людей с причала у 35-й батареи и ушли на Кавказ. На переходе их перехватили четыре торпедные катера противника и начался ожесточённый бой. Один из ТКА получил повреждения, СКА №0124 затонул, а СКА №028 удалось прорваться. СКА №0112 в ходе боя получил значительные повреждения и лишился хода. К нему подошли немецкие катера и все находившиеся на его борту были захвачены противником. Немцы затопили катер, а пленных доставили в Ялту. В плен попал 31 человек, в том числе генерал Новиков. Утром 2 июля из Новороссийска вышли пять катеров. К утру 3 июля они подошли к Севастополю и, несмотря на огонь противника, приняли на борт защитников Севастополя: 79 человек СКА №019, 55 человек было на СКА №038, 108 человек на СКА №082 и 90 человек вывез СКА №0108 (данные по СКА №039 отсутствуют). Утром 6 июля в Севастополь направился последний отряд из шести катеров, выделенный для эвакуации. У мыса Херсонес они были обстреляны артиллерией противника, к берегу подойти не смогли и вернулись в Новороссийск без спасённых. Оставшиеся защитники крепости сдались в плен. Так закончилась 250-дневная оборона Севастополя.


Для устранения повреждений, проведения ремонта и модернизации катера типа МО-4, как правило, поднимали краном на стенку. На снимках катер Черноморского флота, на заднем плане крейсер «Красный Кавказ»
Кампании 1942 и 1943 годов на Балтике
Весной 1942 г. все работы на катерах, входивших в состав КБФ, были завершены, и в конце апреля их спустили на воду. Вскоре они вновь начали нести дежурство на фарватерах, вести и охранять траление, сопровождать конвои и отражать атаки катеров и авиации противника. Немцы пытались перерезать советские коммуникации и сосредоточили в Финском заливе значительные «москитные» силы. Бои происходили практически ежедневно, потери несли обе стороны. Например, вечером 30 июня 1942 г. один из СКА атаковали 12 истребителей Ме-109. Их атака продолжалась всего три минуты, но катер получил значительные повреждения. Однако мастерство советских катерников росло, ими внимательно изучался боевой опыт, оплаченный дорогой ценой. Важнейшей задачей для катеров в 1942 г. было сопровождение наших подводных лодок, которые прорывались в Балтику. Помимо этого, катера привлекались для ведения разведки и высадки диверсионных групп.
На Ладоге было два дивизиона малых охотников и они оказались просто незаменимы - они водили караваны барж с грузами для Ленинграда, сопровождали конвои с эвакуируемыми, несли дозорную службу, высаживали разведчиков и диверсантов в тыл противника. Они принимали участие в боях с кораблями вражеской флотилии. 25 августа 1942 г. «МО-206», «МО-213» и «МО-215» захватили у острова Верккосари финский катер. В ночь на 9 октября 1942 г. «МО-175» и «МО-214» приняли неравный бой против 16 БДБ и 7 СКА противника, которые планировали обстрелять остров Сухо. Активно используя дымзавесы, им удалось сорвать планы противника. К сожалению, в этом бою «МО-175» погиб почти со всем экипажем. Три моряка попали в плен. «МО-171» отличился 22 октября 1942 г. при обороне острова Сухо от десанта. Двум советским кораблям и трёхорудий-ной батарее на острове противостояли 23 корабля противника, но их атаки были отбиты, и десант сброшен в воду Ладоги. После этого активность действий вражеской флотилии резко снизилась. Наша флотилия продолжала наращивать темп перевозок. Это позволило накопить резервы и в январе 1943 г. прорвать блокаду.
Зиму 1942-43 гг. катера КБФ провели в Кронштадте. Обстановка была не такой сложной как в первую блокадную зиму. Это позволило не только «подлатать» корпуса, отремонтировать все механизмы и двигатели, но и провести небольшую модернизацию ряда катеров. На них постарались усилить вооружение -местные умельцы разместили перед рубкой вторую пару пулемётов ДШК, увеличился боезапас, некоторые катера получили импровизированную конструктивную защиту (в виде железных листов толщиной 5-8 мм). На часть катеров установили новую гидроакустику.
Ещё не закончился ледоход, а катера уже были спущены на воду и начали несение дозорной службы. Немцы надёжно блокировали наш флот в «Маркизовой луже» - в 1943 г. ни одной советской подлодке не удалось прорваться на Балтику. Основная тяжесть защиты наших коммуникаций легла на экипажи торпедных катеров, бронекатеров, тральщиков и малых охотников. Бои проходили ежедневно и велись с большим ожесточением: противник старался большими силами атаковать наши конвои, активно использовал авиацию и вёл минные постановки на наших фарватерах. Например, 23 мая 1943 г. «МО-207» и «МО-303» отразили нападение тринадцати финских катеров. Об этом бое даже было рассказано в сводке Совинформбюро. Ожесточённое сражение произошло 2 июня между пятью финскими катерами и шестью катерами МО. 21 июля четыре финских ТКА атаковали два МО, но врагу не удалось потопить ни один из них. Финны были вынуждены отступить. Немецкий историк Ю.Майстер отмечал: «Благодаря достаточной численности и повышенной бдительности советских эскортных кораблей, удалось провести лишь относительно небольшое число атак. По той же причине пришлось отказаться от минирования в широком масштабе русских путей подвоза на Лавенсаа-ри и Сескар».
На Чёрном море
После падения Севастополя ситуация на Чёрном море ухудшилась: Вермахт рвался на Кавказ, наш флот лишился большинства баз и был заперт в нескольких небольших портах, он не предпринимал активных действий. Основная тяжесть боевых действий оказалась на подлодках и «москитном» флоте, который обеспечивал воинские перевозки, высаживал диверсантов и разведгруппы, охотился на вражеские субмарины, выставлял минные банки и проводил траление. В этих операциях катера типа МО были просто незаменимы. Их экипажи старались всеми сред-
ствами повысить боевые возможности своих кораблей: усиливали дополнительное вооружение, постоянное и съёмное бронирование толщиной 5-8 мм (на ходовом мостике, на баке и на бортах в районе бензоцистерн). На нескольких катерах МО были размещены четырёх- и шестиствольные реактивные установки РС-82ТБ, восьмиствольные 8-М-8. Они активно применялись на Чёрном море как в боях с катерами противника, так и по целям на берегу при проведении десантных операций. Например, в конце 1942 г. СКА №044 и №084 в районе мыса Железный Рог обстреляли PC немецкую батарею. После трёх восьмизарядных залпов она была подавлена.
Это позволило высадить на берег разведгруппу. Всего в 1942-43 гг. на Чёрном море катерами было израсходовано 2514 PC.


«МО-215» в открытой экспозиции музея «Дорога жизни». Снимки конца 80-х гг.
Наиболее активное участие черноморские МО приняли в многочилен-ных десантных операциях - в Южную Озерейку, на Малую землю, на Таманский полуостров, Керченско-Эльтигенская десантная операция. Наибольший вклад катера внесли в успех Новороссийской десантной операции. В ней не были задействованы крупные корабли, и всё пришлось делать катерникам «москитного» флота. Каждый из 12 катеров МО-4 должен был принять 50-60 десантников на борт и привести к месту высадки на буксире два-три мотобота или баркаса с десантниками. За один рейс одна такая «сцепка» доставляла до 160 десантников с и боеприпасами. В 02.44 10 сентября 1943 г. катера, батареи и авиация атаковали порт торпедами, бомбами, PC и артогнём. Порт был хорошо укреплён, и немцы открыли по катерам ураганный прицельный артиллерийский и миномётный огонь, но высадка трёх отрядов десанта началась. СКА №081 был повреждён при прорыве в порт, но высадил 53 десантника на Элеваторную пристань. СКА №0141 был протаранен в левый борт СКА №0108, потерявшим управление, но высадил 67 морпехов на Старопассажирскую пристань. СКА №0111 без потерь ворвался в Новороссийск и высадил к пристани №2 68 десантников. СКА №031 под огнём противника прорвался к пристани №2 и высадил 64 морских пехотинца. СКА №0101 высадил на пристань №5 64 десантника, а на обратном пути вывел на буксире из под обстрела повреждённый СКА №0108. СКА №0812 «Морская душа» не сумел прорваться в порт, был повреждён артогнём противника, на борту начался пожар, и катер был вынужден вернуться в Геленджик. После высадки десантников уцелевшие катера начали доставку боеприпасов и подкреплений на плацдарм, охрану коммуникаций. Историк флота B.C. Бирюк написал об этом десанте: «Новороссийская операция стала образцом смелости и решительности, отваги и мужества моряков с малых охотников, сражавшихся беззаветно и доблестно и показавших незаурядное воинское мастерство». Не случайно командующий Черноморским флотом издал приказ - приветствовать возвращающиеся в Поти после завершения Новороссийской десантной операции малые охотники построением экипажей всех кораблей эскадры.
В нашего флота осталось много подвигов, совершённых экипажами малых охотников. Расскажем об одном из них. 25 марта 1943 г. СКА №065 сопровождал транспорт «Ахиллеон», шедший в Туапсе. На море был сильный шторм,волнение достигало 7 баллов. Транспорт атаковала немецкая авиация, но катер сумел отразить все их атаки и не дал атаковать цель. Тогда немецкие асы решили устранить помеху и переключились на катер. Они начали «звёздные» атаки, но командиру катера старшему лейтенанту П.П. Сивенко удалось уклониться от всех бомб и не получить прямых попаданий. Катер получил около 200 пробоин от осколков и снарядов, был разбит форштевень, сместилась рулевая рубка, пробиты цистерны и трубопроводы, заглохли моторы, дифферент на нос достигал 15 градусов. Потери составили 12 моряков. Самолёты израсходовали боезапас и улетели, а на катере ввели в действие моторы и догнали транспорт. За этот бой весь экипаж был награждён орденами и медалями, а катер был преобразован в Гвардейский. Это единственный катер ВМФ СССР, удостоившийся подобной чести.
В сентябре 1944 г. война на Чёрном море завершилась, но катерами МО-4 предстояло выполнить ещё две почётные миссии. В ноябре 1944 г. в Севастополь возвратилась эскадра. На переходе в главную базу флота её сопровождали многочисленные катера МО-4. В феврале 1945 г. катера типа МО-4 были задействованы в охране с моря Ливадийского дворца, где проходила Ялтинская конференция союзников. За вклад в разгром Германии орденом Красного Знамени были награждены 1-й и 4-й Новороссийский, 5-й и 6-й Керченский дивизионы малых охотников. На черноморских МО воевало десять Героев Советского Союза.
Завершающие бои на Балтике
В 1944-45 гг.ситуация на Балтийском море изменилась: наши войска деблокировали Ленинград, начали наступление на всех фронтах, шли бои за освобождение Прибалтики. Финляндия вышла из войны, и корабли КБФ начали активно использовать её базы. Но крупные корабли КБФ оставались в Ленинграде и Кронштадте, а воевали лишь подлодки и «москитный» флот. Коммуникации Балтийского флота растягивались,росло количество перевозимых грузов, возросла нагрузка на катера МО. На них по-прежнему была возложена охрана конвоев, эскорт подлодок, высадка десантов, обеспечение траления и борьба с финскими и немецкими подлодками. Немцы стали активно применять подводные лодки для действий на наших коммуникациях. 30 июля 1944 г. в проливе Бьёркезунд немецкой подводной лодкой был потоплен «МО-105». На её поиск из Койвисто вышел «МО-ЮЗ» под командованием старшего лейтенанта А.П. Коленко. Прибыв на место, он спас 7 моряков из экипажа потопленного катера и начал поиск субмарины. Этот район был мелководным, но лодку обнаружить не удалось. Лишь вечером катер-дымзавесчик КМ-910 сообщил о всплытии лодки. «МО-ЮЗ» атаковал её и сбросил на место погружения несколько серий глубинных бомб (8 больших и 5 малых). Под водой произошёл сильный взрыв, начали всплывать различные предметы, поверхность воды покрылась слоем топлива. А вскоре всплыли шесть подводников. Их взяли в плен и доставили в базу. На допросе командир подлодки «11-250» рассказал, что лодка вооружена новейшими самонаводящимися торпедами Т-5. Её подняли на поверхность, перевели в Кронштадт, поставили в док и извлекли торпеды. Их конструкция была изучена, и советские конструкторы придумали средства для их нейтрализации. 9 января 1945 г. в районе Таллина «МОИ24» потопил подводную лодку «U-679».
За вклад в разгром Германии 1-й дивизион катеров МО стал Гвардейским, а 5-й и 6-й дивизионы были награждены орденами Красного Знамени. На балтийских катерах МО воевали три Героя Советского Союза.
Память
После окончания войны, уцелевшие катера типа МО-4 были переданы в погранохрану. В её составе они продолжали службу до конца 50-х гг. Потом все они были списаны и разобраны.В память о них остался лишь цветной художественный фильм «Морской охотник», вышедший в 1954 г. В нём снималась настоящая «мошка». Но славные дела экипажей «мошек» в годы Великой Отечественной войны не были забыты. В этом большая заслуга ветеранов, которые собирали письма, воспоминания, фотографии и другие реликвии военных лет. Они на добровольных началах создавали комнаты боевой славы, небольшие музеи, публиковали статьи о славных делах катерников.
Особо стоит отметить деятельность Игоря Петровича Чернышёва, который всю войну прошёл на «мошках» на Балтике. Сначала он был старшим помощником, потом командовал катером и соединением
катеров. Он принял участие во многих боях, был неоднократно ранен. После войны он собирал материалы об участии катеров КБФ в войне. Его статьи были опубликованы в газетах «Красная звезда», «Советский флот» и «Краснознамённый Балтийский флот», журналах «Советский моряк», «Советский воин» и «Моделист-конструктор». В 1961 г. вышли его мемуары «На «морском охотнике», в 1981 г. «О друзьях-товарищах».
Всю жизнь посвятил изучению боевой деятельности малых охотников Черноморского флота Владимир Сергеевич Бирюк. В годы войны он служил на «МО-022» и принимал участие в обороне Одессы и Севастополя, боях за Кавказ, морских
десантах. Им были опубликованы статьи в журнале «Катера и яхты», сборнике «Гангут». В 2005 г. вышло его фундаментальное исследование «Всегда впереди. Малые охотники в войне на Чёрном море.1941-1944». Он отмечал, что историки уделяли действиям МО незаслуженно малое внимание и старался восполнить этот пробел.
С помощью ветеранов-катерников в СССР удалось сохранить два малых охотника типа МО-4. На «Малой земле» в Новороссийске был установлен Гвардейский «МО-065» Черноморского флота. В музее «Дорога Жизни» в посёлке Осиновец Ленинградской области поставили «МО-125» Ладожской флотилии. К сожалению, время безжалостно, и сейчас возникла реальная угроза потери этих уникальных реликвий Великой Отечественной войны. Мы не должны это допустить, потомки нам не этого не простят.

В таком ужасном состоянии находится последний уцелевший малый охотник «МО-215» типа МО-4 в музее «Дорога жизни», посёлок Осиновец Ленинградской области, ноябрь 2011 г, К настоящему времени с катера демонтировали всё вооружение, часть палубы провалилась, рубка разрушена. Особое беспокойство вызывают прогибы корпуса в районе рубки. Это может привести к потере уникальной реликвии времён Великой Отечественной войны
Ctrl Enter
Заметили ошЫ бку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Спроектированы группой конструкторов под руководством инженера С. В. Пугавко, как дальнейшее развитие охотника типа МО-2. В отличие от МО-2 незначительно увеличили длину и ширину, а так же убрали срез палубы в корме, борт уменьшили на 100 мм, к тому же катера получили более мощные главные двигатели, что способствовало увеличению полного хода. В мирное время охотники несли сторожевую службу в составе соединений морпогранохраны НКВД, а в военное время использовались для борьбы с подводными лодками противника в составе ВМФ, а так же для охраны водного района (ОВР).
Корпус у катера гладкопалубный, деревянный с трёхслойной обшивкой из сосновых досок и прокладками из перкаля, в районе ватерлинии корпус сделали более полным, что существенно увеличивало остойчивость. Удачными были и обводы корпуса из-за чего катер не опрокидывался в шторм и легко всходил на волну. Надстройка состаяла из боевой рубки и открытого ходового мостика.
Непотопляемость обеспечивалась делением корпуса водонепроницаемыми переборками на 9 отсеков:
- Форпик;
- Камбуз, котёл для обогрева жилых помещений;
- Кубрик №1 на 4 человека;
- Кубрик №2 на 8 человек, коридор №1, санузел;
- Топливные цистерны;
- Машинное отделение №1;
- Машинное отделение №2;
- Кают-компания, коридор №2;
- Ахтерпик.
Спасательные средства на катерах представлены одной четырёхвёсельной шлюпкой, расположенной в корме на палубе.
Силовая установка механическая, трёхвальная с тремя бензиновыми моторами ГАМ-34БС по 850 л.с. каждый, с реверс-муфтами, которые обеспечивали передний, задний и холостой ход и передовали вращение на три винта фиксированного шага обеспечивая полную скорость до 27 узлов. Вид топлива бензин марки Б-70. Размещение большинства механизмов ниже ватерлинии повышало живучесть катера, что не раз спасало экипажи от верной гибели, а "подводный выхлоп" у двигателей уменьшал шум катера, что было очень важно для внезапных и скрытных действий, особенно ночью.
Электроэнергетическая система включала две динамо-машины постоянного тока ПН-28,5 мощностью по 2 кВт, расположенные в кормовом машинном отделении. Машина закрытого типа, со смешаным возбуждением создавала напряжение 115 В, при силе тока до 17 А и имела вес в 96 кг.
Вооружение катеров состояло:
- Из 2 одноствольных 45-мм полуавтоматов 21-К с длиной ствола 46,1 калибра, расположенных одно на баке и одно в корме. Орудия в палубных установках не имели щита. Подача снарядов проводилась в ручную. Расчёт орудия включал 3 человека. Скорострельность установки составляла 25 выстрелов/мин. Угол вертикального наведения от -10 до +85 градусов. Начальная скорость снаряда 720 м/с., а дальность стрельбы до 9,2 км. Масса установки доходила до 507 кг.
- Из 2 одноствольных 12,7-мм пулемётов ДШК с длинной ствола 84,25 калибра, которые распологались побортно в кормовой части между надстройкой и кормовым 45-мм орудием. Режим огня - только автоматический, построенный на газоотводном принципе, пулемёт имеет дульный тормоз. Скорострельность установки составляла 600 выстрелов/мин. при начальной скорости патрона 850 м/с, дальность стрельбы доходила до 3,5 км, а потолок до 2,4 км. Питание пулемётов ленточное, в ленте 50 патронов. Стрельба ведется очередями до 125 выстрелов после чего требуется охлаждение. Расчёт пулемёта включал 2 человека. Для удобства наводки предусмотрен наплечник с регулируемыми плечевыми упорами. Пулемёты имели систему ручного управления с оптическим прицелом. Масса установки - нет данных.
- Из 2 бомбосбрасывателей в корме и 24 глубинных бомб МБ-1. Общий вес бомбы составлял 41 кг, а вес тротила 25 кг при длине в 420 мм и диаметре 252 мм. Скорость погружения доходила до 2,3 м/с, а радиус поражения составлял до 5 метров. Бомба применялась для профилактического бомбометания, в том числе, для подрыва донных магнитных и акустических мин с катеров и тихоходных кораблей.
- Из 4 якорных мин КБ-3 и минных рельсов. Корабельная большая мина с гальваноударным взрывателем весила 1065 кг, а вес заряда 230 кг. Глубина места постановки составляла от 12 до 263 метров, минимальный минный интервал 35 метров, наибольшая скорость хода при постановке 24 узла при высоте борта 4,6 метра. Время прихода в боевое положение равнялось 10-20 минутам, точность установки на заданное углубление 0,6 метра, задержка взрыва 0,3 секунды.
Катера комплектовались компасом, шумопеленгаторной станцией (ШПС) "Посейдон" и морскими дымовыми шашками (МДШ).
ШПС «Посейдон» предназначалась для пассивного обнаружения целей, путём регистрации и классификации их шумов. Станция обеспечивала обнаружение цели "на стопе" по структуре шумо-сигнала на дальности от 740 метров до 2,5 км, точность пеленгования колебалась в пределах 5-10°, причем саму дистанцию до цели ШПС определить не могла.
Морская дымовая шашка МДШ, принятая на вооружение в 1935 году, предназначалась для кораблей, не имеющих стационарной дымовой аппаратуры. В качестве дымообразователя в шашке используется твердая дымовая смесь на основе нашатыря и антрацена. При длине 487 мм и массе 40-45 кг, время ее работы составляет восемь минут, а создаваемая дымовая завеса достигает 350 метров в длину и 17 метров в высоту.
Строились катера на Приморском заводе №5 в г. Ленинграде.
Головной катер вошёл в строй флота в 1936 году.
Тактико-технические данные катеров типа МО-4
| Ширина наибольшая: | 4,0 метра |
| Высота борта на миделе: | 2,9 метра |
| Осадка по корпусу: | 1,5 метра |
| Силовая установка: | 3 бензиновых мотора ГАМ-34БС по 850 л.с., 3 винта ФШ, 3 руля |
| Электроэнергетическая система: |
2 динамомашины ПН-28,5 по 2 кВт постоянный ток 115 В |
| Скорость хода: | полная 27 узлов, экономическая 16 узлов |
| Дальность плавания: | 800 миль при 16 узлах |
| Мореходность: | до 4 баллов |
| Автономность: | 3 суток |
| Вооружение: | . |
| артиллерийское: | 2х1 45-мм полуавтомата 21-К, 2х1 12,7-мм пулемёта ДШК |
| противолодочное: | 2 бомбосбрасывателя, 24 бомбы МБ-1 |
| минное: | 4 мины КБ-3 |
| гидроакустическое: | 1 шумопеленгатор "Посейдон" |
| навигационное: | 1 магнитный компас, лаг |
| химическое: | 6 дымовых шашек МДШ |
| Экипаж: | 16 человек (2 офицера, 2 мичмана) |
Всего построено катеров с 1936 г. по 1945 г. - 219 единиц.